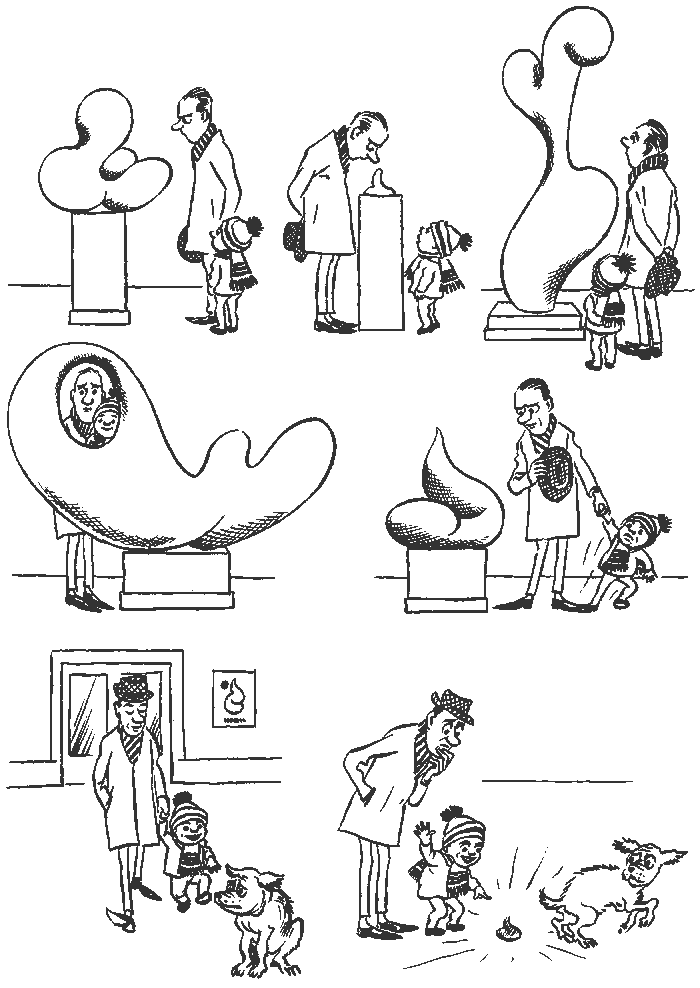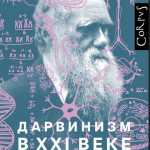Сергей Морозов
Тот, кто наблюдает за полемикой последних лет, развернувшейся вокруг Сталина, СССР и нашего постсоветского бытия вряд ли узнает из книги Алексиевич что-то новое. По большому счёту «Время секонд хэнд» всего лишь объёмная и удобная для использования компиляция на эту тему. Присутствует весь джентльменский набор: от «Сталина на Вас нет» до покаянных, печальных, горделивых (на выбор) воспоминаний о репрессиях и годах перестройки.
Слова «обжигающая», «трогающая» в её адрес во многих рецензиях – это эпитеты от тех, кому «наши беды и не снились, а думы не икались». Они естественны и понятны для западных читателей, которые не в курсе всех наших непрекращающихся печатных и интернетных баталий вокруг советского и постсоветского. Для них книга Алексиевич, что-то вроде посещения комнаты страха. Приятно и будоражит.
С другой стороны, написано не только на экспорт, но и для внутреннего употребления. И здесь перед нами уже как у Вересаева «литература на эстраде». Катарсис, удовлетворение потребности в совести и в гражданских мотивах. Читая такие книги, читатель ощущает себя человеком и гражданином, принимает душ совести и гуманизма, после чего может спокойно жить дальше. Такого рода книги – что-то вроде утренних пробежек с целью поддержания тонуса и фигуры для тех, кто далёк от настоящей, реальной духовной работы. Прочитал, облился слезами над замыслом – и всё, ты – человек.
Всё содержание книги можно рассматривать как тест на совестливость и гражданственность. Если читатель его не прошёл, не проникся и не обжёгся, то, на мой взгляд, за него можно только порадоваться. У него, слава Богу, стойкий иммунитет к «гражданственности». Потому что при всей негативности и покаянности исповедей интеллигентных читателей «Архипелага ГУЛАГ» и Пастернака, которыми полно повествование о бэушном времени, книга Алексиевич претендует на продолжение этой традиции, на закрепление в пантеоне интеллигентских божков, по которому свои будут опознавать своих, как сейчас по Бродскому.
С самого начала автор обещает нам две вещи – исследование красного человека и исследование «домашнего социализма». Но он лукавит. В книге нет ни того, ни другого.
Полноценное исследование и человека и социализма затруднено уже хотя бы тем, что книга придерживается почти фоменковской исторической хронологии: за Сталиным у Алексиевич почти всегда сразу следует Горбачёв, за 45–53-ми годами 89–91-й «и другие годы». Вся 75-летняя история страны уместилась в эти несколько лет и свелась к времени репрессий и перестройки, увенчавшись для полноты картины «лихими 90-ми». Сладкого застоя, времени целины, комсомольских строек и размеренного советского быта будто и не было. Автор, конечно, хозяин-барин, и волен кроить исторический процесс в своих целях, как ему заблагорассудится. Но наша цель, во избежание недоразумений, сразу предупредить читателя, что никакой развёрнутой картины советского прошлого он, читая «Время секонд хэнд», не получит.
Вольное обращение с историей основано на субъективном антропологическом представлении о советском человеке как человеке военном и страдающем.
«В общем-то, мы военные люди. Или воевали, или готовились к войне. Никогда не жили иначе. Отсюда военная психология. И в мирной жизни всё было по-военному. Стучал барабан, развевалось знамя… сердце выскакивало из груди…»
Такое видение «красного человека» предопределяет содержание книги, которое некоторые называют лживым, но которое я определил бы как выборочное и одностороннее. Записанные и рассказанные на страницах книги истории – это лишь часть правды, поэтому автору сразу можно поставить на вид введение читателей в заблуждение. Перед нами не вся советская цивилизация, а лишь определённый её срез.
Заявка на исследование «красного человека» не имеет под собой оснований ещё и потому, что в центре внимания автора оказывается на самом деле человек постсоветский, переживший травму распада СССР и забвение о том, каким он был тогда, в советское время. Во многих интервью, с которыми читатель знакомится в книге, отчётливо просматриваются итоги многолетней идеологической обработки сознания бывшего советского человека. Перед нами уже ретроспекция и реконструкция, с определённой точки зрения, в определённом ракурсе. Это уже идеализированный или наоборот очернённый образ, это плод рефлексии, воспоминаний, отравленных безрадостным, или напротив более-менее неплохо сложившимся настоящим. «Красный человек» Алексиевич – это миф, брэнд, который содержит в себе только то, что от него ожидают: посттоталитарный травматический шок, фантомные боли, манию величия и комплекс неполноценности одновременно. [см. хороший пример, как носители подобных фантомов, атакуют людей, сохранивших память о советской реальности со всеми её плюсами и минусами.]
Между тем, «а у этих один страх», относится именно к постсоветскому, а не к советскому человеку. От чего уж точно был избавлен советский человек, так это от этого удушливого страха перед «тоталитарной государственной машиной», то есть от того, что так с удовольствием расписывает и озвучивает на страницах своей книги Алексиевич. Страх этот и это чувство покорности и бессловесности – для меня, как человека заставшего последние годы существования СССР, нечто немыслимое, впервые вычитанное из огромных разворотов газеты «Правда» за 1987–88-й год с портретами Тухачевского, Якира, Уборевича и «Детей Арбата». Из них я впервые узнал, что, оказывается, мы чего-то боимся, что, оказывается, вся страна сидела в ГУЛАГе (кроме моих родственников почему-то).
Не менее сомнительна и претензия автора дать нам картины «домашнего», «внутреннего» социализма, сохранить и передать уходящие детали и приметы того времени. Вместо картин быта перед нами опять насквозь политизированное изложение, бегущее по заколдованному кругу: Сталин-репрессии-перестройка-свобода-обманули.
Даже у меня воспоминаний о домашнем социализме больше, чем во всей книге. Еженедельный поход всей семьёй в кино на какой-нибудь фильм, обязательно иностранный, ананас, неожиданно приобретённый зимой, цветной телевизор, который отец принёс взамен старого чёрно-белого, вкус кекса за 16 копеек, который я покупал по дороге из школы – вот мой внутренний домашний социализм, вот каким я его запомнил. А дальше ещё и ещё.
Магазин технической книги на вокзале, образовательный канал на полдня по второй программе ЦТ – фактически, дистанционное образование задолго до всех этих курсер, утренние пробежки и игра в футбол на стадионе по соседству, прогулки с друзьями в пригородном парке и лесу. Всё это я помню. А вот антисоветскую пропаганду, диссидентщину, байки о страданиях родственников в застенках ГУЛАГа – нет.
Лишь две трагедии – бытовое пьянство и дефицит, врезались мне в память из того домашнего социализма. И ничего, совершенно ничего трагического из области политики. При этом вряд ли стоит отрицать то, что рассказано в книге Алексеевич. Просто эти истории нетипичны для той страны в целом и типичны для определённой социальной группы, для интеллигентской прослойки, в первую очередь столичной. Там да, там наверняка вся мысль только и могла вертеться вокруг Шаламова и ГУЛАГа. А нам, в нашем домашнем социализме всем этим заниматься было некогда. Мы сажали картошку, строили дачи и погреба, бегали, громыхая бутылками и банкой в сетке за сметаной и молоком, пили «Дюшес» и «Буратино», ходили на рыбалку и ездили купаться всей семьёй на городской пляж.
Среди нас не было ни палачей и ни жертв. Да мы и не мыслили такими категориями, и не жили ими. Мы и в самом деле жили в домашнем, внутреннем, а не том, гулаговском или имперском социализме, которые соперничают теперь в общественном сознании и во «Времени секонд хэнд».
Впрочем, даже в своей попытке рассказать нам советские и постсоветские ужасы «обжигающая» книга вовсе не обжигает, да и жестокой не кажется. Когда вот так нагромождают боль, трагедии и ужасы, они перестают восприниматься в качестве таковых. «Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – это статистика» – известно давно. Перед нами, может быть, и не такая обширная, но всё же, статистика. Одной лишь истории, рассказанной из множества, вполне хватило бы на то, чтобы читатель почувствовал и прочувствовал произошедшее со страной, с человеком. Но Алексиевич предпочла социологию литературе, количество качеству, художественное исследование художественному вымыслу, секонд хэнд чужих мнений и впечатлений своеобразному авторскому взгляду.
При этом цель, поставленная автором, предостеречь нас от повторения прошлого, показав, как оно перетекает в живое секонд хэнд настоящее, вряд ли достигнута. От книги Алексиевич веет забытой атмосферой перестроечной вольницы, гласности и покаяния, выдержанной в духе этих «Пресс-клубов», «Взглядов», «12-й этаж», газетных рубрик и колонок времён перестройки. В этом смысле название книги двусмысленно, поскольку говорит не только о предмете её повествования, но и о её направленности.
Борясь с одним вновь проживаемым прошлым (советским, сталинским, имперским), «Время секонд хэнд» вольно или невольно предлагает нам другое (перестроечное). И если мы поверим автору, то вряд ли выберемся из дурной бесконечности и окажемся у конца времён, за которым начнётся что-то новое, начнётся будущее.
Вообще, книги Алексиевич — типичный пример эмоциональной манипуляции, основанной на двоякого рода неправде. Первая обычная для писателей: как у Пушкина, где вроде бы важная мораль выводится путём очернения Сальери, творца, не менее значимого чем Моцарт. Вторая — уже идеологическая тенденция, как в «Архипелаге» и т.д. солженицынских творениях: по книгам видно, что она и свои слова опрашиваемым вкладывает, и не все их ответы регистрирует, и к ложным воспоминаниям побуждает (а как поведенщик, я знаю что вообще память и воображение — это одно и то же чувство, а автобиографическая — в первую голову).
Поэтому нормальным историкам стоило бы рандомно проверить её истории — вангую что 8 из 10 окажутся «сделанными» а не записанными. Только Солженицын бил на злость, производя «ужасы режима» (также как известный больше западному читателю Тимоти Снайдер, производитель лжи о «кровавых землях»), Алексиевич — на жалость, конструируя «трагедии».
И это предположение, возникшее от небольших фрагментов двух её книг — больше не выдержал ввиду устойчивого ощущения хорошо сделанной лжи — подтверждается фактами (о чём узнал лишь недавно).
См. рассказ про «уничтожение евреев партизанами» и реальность. Или как мне рассказали её коллеги-писатели в соцсетях, «Собственно, после «Цинковых мальчиков» её привлекали к суду именно за искажение рассказанного. Не знаю, чем кончилось, возможно, просто замяли«.
Или соображения литературоведов:
«Записанные на диктофон речи обыкновенных людей поражают воображение — люди говорят, как пишут. Причем пишут публицистику:
«Страна покрылась банками и торговыми палатками»; «Горбачевские годы… Свобода и купоны. Талоны… купоны…»; «Советское время… У Слова был священный, магический статус. И по инерции на интеллигентских кухнях еще говорили о Пастернаке, варили суп, не выпуская из рук Астафьева и Быкова, но жизнь все время доказывала, что это уже неважно…» «Геополитика пришла к нам в дом. Россия распадается… Скоро от империи останется одно Московское княжество…».
Вероятность того, что Алексиевич встречались, как на подбор, именно такие особые обыкновенные люди, ничтожно мала. Кроме того, в записанных рассказах на удивление много анекдотов. Повальная любовь интервьюируемых Алексиевич к анекдотам тоже сомнительна.
Или вот такой приём: рассказ в рассказе. Женщина, у которой в Чечне погибла дочь («Олеся Николаева — младший сержант милиции, 28 лет»), вдруг начинает пересказывать историю бывшего офицера, встреченного в электричке. Пересказывает от его имени и в художественных подробностях: «Стоит старый чеченец и смотрит: нас полная машина дембелей. Смотрит и думает: нормальные русские парни, а только что были автоматчики, пулеметчики… снайперы…», — это будто бы бывший офицер так ей рассказывал. И при этом саморазоблачался: «Можно многое себе позволить… Ты — пьяная скотина и у тебя оружие в руках. В голове — один сперматозоид… …Работа палаческая… Умирали за мафию, которая нам еще и не платила». Поверить в то, что всё это воспроизводит несчастная мать, очень трудно.
Вот другая несчастная мать; она говорит о невероятно любимом сыне, в 14 лет покончившим с собой. И — уснащает свой рассказ множеством стихотворных цитат — от обэриута Введенского до Высоцкого. Читает стихи и «Василий Петрович Н., член коммунистической партии с 1922 года, 87 лет» (в версии 1993 года — с 1920 года, но это пустяки).
«Умирали ради него [ради будущего], убивали. Крови было много… и своей, и чужой… «Иди и гибни безупречно! / Умрешь недаром — дело прочно, / Когда под ним струится кровь…», «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть… »
Он же наизусть воспроизводит пассаж из романа «Что делать?», своего любимого. Видимо, для придания разговорной живости этой слишком уж литературной речи вставлены то здесь, то там ремарки: «Из-за кашля опять неразборчиво»; «Почти кричит»; «Удивленно» и т. п. Но это мало что меняет.
Ошибки в мелочах тоже свидетельствуют против подлинности. Например, москвичка говорит: «Бабушка просила похоронить ее на Хованском кладбище, но без взятки туда не пробиться, кладбище старое, известное…» Однако любой москвич (в отличие от жителя другого города) знает, что Хованское кладбище — не старое, а, по московским меркам, новое, организовано в начале 1970-х.
Вот некто неизвестный («Из уличного шума и разговоров на кухне (2002−2012)») рассказывает о том, как он, отвечая на призыв Егора Гайдара к «москвичам, всем россиянам, которым дороги демократия и свобода», пошёл к Белому дому и там вроде бы таскал раненых. Однако те, кто отвечал на призыв Гайдара, не могут не знать, что призывал он прийти и спасать демократию не к Белому дому, а к Моссовету.
А вот русская беженка из Абхазии: «Рано-рано проснулись от грохота. По нашей улице шла военная техника. […] Одна машина затормозила возле нашего дома. Экипаж русский. Я поняла — наемники». То есть русская девушка называет русских солдат — наёмниками, но почему-то бежит в далёкую незнакомую Москву, бросая родную мать в Сухуми. Злые люди не разрешают ей взять в самолёт даже мамины пирожки (!), а рядом грузят чемоданы и большие коробки «товарища майора». Всё очень пафосно и неправдоподобно.
Homo soveticus предстаёт со страниц этой книги в лучшем случае безнадёжными лузером. Он гордится честной бедностью, новой жизни не знает, её не принимает и знать не хочет. Для него чтение «Доктора Живаго» и др. — главное в жизни. Один из совершенно невероятных эпизодов книги — молодая женщина с больным ребёнком в больнице: «У меня всегда был под мышкой „Архипелаг ГУЛАГ“ — я его в ту же минуту открывала. На одной руке умирает ребенок, а в другой — Солженицын. Книги заменяли нам жизнь. Этот был наш мир».
Чаще же этот homo soveticus — редкостный подонок и сволочь. Например, переживший оккупацию еврей (в Белоруссии) рассказывает, как он впервые услышал слово «жид» — именно от советских людей, своих соседей. И советские крестьяне на евреев доносили. И советские партизаны над евреями издевались… Нет, немцы, конечно, тоже присутствуют — всё-таки война, гетто, — но как-то по касательной. А некоторые даже проявляют человечность: так, один немец, поняв, что мать рассказчика — русская, посоветовал ей не прыгать в общую яму-могилу.
Бывший энкавэдэшник-палач вспоминает:
«…на войне я отдыхал. Расстреливаешь немца — он кричит по-немецки. А эти… эти кричали по-русски… Вроде свои… В литовцев и поляков было легче стрелять. […] Мы все в крови… вытирали ладони о собственные волосы… Иногда нам выдавали кожаные фартуки… Работа была такая. Служба».
А вот и лихие 90-е, в вспоминания о которых почему-то вмешивается Сталин: «Каждое утро во дворе находили труп, и уже мы не вздрагивали. Начинался настоящий капитализм. С кровью. Я ожидал от себя потрясения, а его не было. После Сталина у нас другое отношение к крови… Помним, как свои убивали своих…»
Сегодняшний день не лучше. Армянка, беженка из Баку, говорит дочери, которая хочет «походить по Красной площади». — «Туда не пойдем, доченька. Там — скинхеды. Со свастикой. Их Россия — для русских. Без нас».
По Алексиевич, мы — фашисты, бандиты, стукачи, палачи, иногда жертвы или идиоты с томиком Солженицына под мышкой… Это такой сильно ношеный секонд хэнд из мифологии, которую принято называть либеральной. Предисловие к книге Алексиевич назвала «Записки соучастника», вроде бы смиренно признавая, что она — тоже homo soveticus. Но это всего лишь еще один художественный приём, ничего по сути не меняющий. Скорее — усугубляющий дело. Потому что перед читателем не verbatim и не non-fiction, а беллетризованная публицистика, за которой проступает глобальная — пропагандистская — неправда. И то, что это сочинение попало в список финалистов «Большой книги», можно счесть простым недоразумением. (А разговоры о Нобеле в связи с Алексиевич просто смешны. Даже если их ведут добропорядочные немцы.)
И напоследок случай из жизни. Одна американская журналистка, Janet Cooke, опубликовала очень трогательную историю про 8-летнего героинового наркомана. Мальчика все жалели, а Janet Cooke дали престижную Пулитцеровскую премию в номинации «За очерк» («for Feature Writing»). Потом выяснилось, что мальчика-то не было — журналистка его просто придумала. Премию пришлось вернуть».
Как пишут (самые умные и честные) единомышленники авторки:
«Алексиевич, конечно, молодец, но премию ей с тем же успехом можно было дать и в номинации «физика», она ведь что-то о Чернобыле писала. Сама идея, что литература ценна ровно настолько, насколько хорошо она обслуживает идеалы либерализма, полностью предвосхищена статьей «Партийная организация и партийная литература», от которой меня тошнило еще в детстве. Либерализм отдельно, культура отдельно«.
Соглашаясь с автором по существу, видишь, что присуждение — уже который раз — подтвердило справедливость помянутой статьи Ильича. Так есть; а нравится или нет — дело вкуса. И понимаешь реакцию специалистов-историков:
«Присвоение Нобелевской премии Алексиевич — это по-настоящему плохая новость только для одной категории граждан.
Для историков.
Публицистика Алексиевич — это принципиальное отрицание профессиональной работы историка. Работа в архивах, критика источников, сопоставление разных точек зрения, проверка, проверка и снова проверка информации — все это подменяется смелой компиляцией некритически воспринятых и произвольно отобранных устных свидетельств. Бродячие мифы и легенды обретают новую жизнь в качестве «достоверных» фактов; эмоциональное воздействие на читателя становится важнее аналитичности.
В ближайшее время мы увидим вал подобной «исторической литературы», подменяющей собой научные исследования. И, что самое печальное, именно подобный формат будет воспринят жаждущим простых объяснений и щекочащих чувства ужасов обществом».