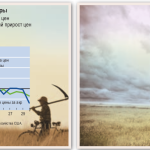Продолжаем публикацию очерков М.Н.Покровского о Феврале, Октябре и Гражданской войне из сборника «Октябрьская революция»
Покровский М.Н.
Двадцать лет прошло с первой революции, восемь лет— со второй. Как странно писать их историю нашему поколению, выросшему под знаком ожидания революции. Но любопытно сравнить — чего мы ждали и что осуществилось.
Любопытно не только нам; современное поколение тоже ждет— иметь мерку для человеческих ожиданий и ему не мешает. После революции — ожидали мы—Россия станет Европой. Что же это значит? Те из нас, кто бывал в Европе, видели там вокруг богатых дач и парков высокие каменные стены, утыканные наверху острыми осколками стекла или не менее острыми гвоздями; где не было каменных стен, а простой легкий заборчик, на нем красовалась зловещая надпись: «здесь расставлены капканы для волков». Горе тому, кто перелезет через заборчик, нарушив «священное право собственности».
А на перекрестках улиц красовались синие фигуры (почему-то полиция всех европейских стран ходила в синем), напоминавшие, что священная собственность» охраняется не только гвоздями и капканами: есть и живая сила. Опытные люди рассказывали, что кулаки у этой живой силы в полном порядке: попадешь к ней в переделку, вернешься, точно в самом деле в волчьем капкане побывал.
А по всем этим странам прошла революция. Что же она оставила? А вот—не осталось царей, или, если остались, когти у них сильно обрезаны. Есть всякие свободы—печати, собраний, совести. Правда, даже и неопытным людям было ясно, что «злоупотреблять» этими свободами никак нельзя. Напасть, например, открыто на «священную собственность» в газете или сказать в ней слишком откровенное—и потому очень обидное—слово о синих фигурах на перекрестках, от этого пахло тюрьмой, а то и каторгой: последнего рода случай был с известным потом социал-патриотом Густавом Эрве, когда он был еще приличным человеком.

Художник Н.Долгоруков. Тираж 100 000. Размер 87,5х58,5. М.:Издательство «Советский художник», 1966 г. Источник
Опытные же люди советовали и свободой собраний не увлекаться: при выходе того и гляди какой-нибудь провокатор устроит «беспорядок» и даст случай полицейским посчитать вам ребра. Да и по части свободы совести только в бесшабашной Франции можно было предаваться ей до полного отделения от «господа бога»; в Англии это значило уже вычеркнуть себя из списков «порядочного общества», а в Германии за слишком откровенный атеизм можно было и под суд попасть.
Словом, ясно было, что от революции не получится ничего больше «упорядочения буржуазного общежития», при котором можно будет, осторожно выбирая выражения, проповедывать «открыто» социализм. Вот и все. Конечно, ходить в православную церковь, да и вообще в какую бы то ни было церковь, будет необязательно. Конечно, можно будет вдосталь ругать начальство, но что начальство будет чужое, буржуазное, «синее», на этот счет не было никаких сомнений.
И когда Ленин стал писать о национализации земли как ближайшей задаче русской революции, это, не будем теперь греха таить, смутило многих и очень многих большевиков,—а большевик и тогда уже (в 1905 г.) был среди русской «революционной» интеллигенции человеком, не то отверженным, не то просто рехнувшимся. А если бы кто договорился до национализации фабрик и заводов,—т. е. до того, что теперь стало для нас обыденной действительностью,— насчет состояния умственных способностей такого человека ни у кого бы и сомнений никаких не было.
И еще большее сострадание добрых людей возбудил бы тот, кто стал бы уверять, что по части упразднения заборов с гвоздями теперешние страны СССР, тогдашняя Россия, пойдут первыми. Ибо казалось истиной самой очевидной, что социализм может к нам притти только после Западной Европы и Америки: иного пути эта Западная Европа просто не допустит, помимо всего прочего. Сосуществование социалистической России и буржуазной Европы просто невозможно,—учил тогдашний «здравый смысл» и прочие авторитеты. Если бы кто-нибудь нарисовал картину, опять-таки для нас ставшую обыденной, к этому перед 1905 годом, отнеслись бы так же, как к предложению ходить на голове, ногами кверху.
Революция представлялась как борьба за республику, а из-за этого всего меньше пришлось бороться, еще не пришлось в 1905 г., уже не пришлось в 1917 г. С характерным для интеллигента формальным подходом к делу мы не понимали, что в революции массы борются не за формы, а за содержание, не за этикетки, а за подлинную действительность, за землю, за власть класса, а не за статьи конституции. А раз власть взята, победивший класс уже сумеет облечь ее в «статьи»—это дело второй очереди.
Непонимание того, что борьба идет за власть, за низвержение старой власти, а не за уступки с ее стороны, что при этом речь идет о старой власти в классовом смысле, а не в личном (не в постановке: царь или вообще династия— и республика, а в постановке: буржуазия и помещики—или рабочие и крестьяне), непонимание этого составляло главную ошибку ожидавших революции. А между тем, если теперь, задним числом, проанализировать составные элементы движения, становится до очевидности ясным, что, если этому движению суждено было достигнуть размеров революции, то это потому, что выбора не было, кто-то должен был оказаться наверху, кто-то внизу.
Колоссальный размах борьбы определяется, прежде всего, тем, что нигде ранее противоположности старого и нового не были так резки, расстояние между старым и новым так громадно, как это было у нас. Революция заставала другие европейские страны на гораздо более низком уровне экономического развития. Не говоря уже о Франции 1789 года, с ее знаменитыми двумя паровыми машинами на всю страну, даже Пруссия 1818 года, с решительным преобладанием ремесленного и кустарного производства в промышленности, с выплавкой чугуна, уступавшей даже России того времени (в 1850 г. Россия имела 228 тысяч тонн, Пруссия только 208) ни в какое сравнение не шла с Россией начала XX века. Россия этого времени была, в отношении промышленности, такою же развитой страной, как Пруссия конца 1870-х годов (1879 год Пруссия 2227 тысяч тонн, Россия 1898—2 228 тыс. тонн чуг.).
В то же время крепостническое государство нигде, даже во Франции 1789 года, не являлось в таком устарелом, истинно «средневековом виде. Нигде крестьяне не являлись форменно «низшей расой», сословием, юридической перегородкой наглухо отделенным от верхушки общества, людьми «лишенными всех особых прав состояния», по остроумному выражению одного тогдашнего юриста: людьми, подлежавшими телесному наказанию, от которого «благородные» были освобождены еще в 1785 году. Нигде не было уже перед революцией специально крестьянского начальства, какими были у нас земские начальники, и нигде самодержавие не было более абсолютным, менее ограниченным: опять-таки во Франции перед 1789 г. все-таки была хоть на бумаге какая-то конституция, созванные в этом году «государственные чины» не были, юридически, какой-то новостью—формально их никто никогда не упразднял,—тогда как у нас одна мысль о конституции в 1895 году объявлялась «бессмысленным мечтанием».
Западные революции били из старых гладкостенных пушек по зданию, которое до некоторой степени было уже приспособлено к тому, чтобы выдерживать артиллерийский огонь. У нас пришлось бить по самому древнему рыцарскому замку, какой только остался в Европе, из современных осадных орудий, в несколько часов способных разнести вдребезги любую каменную стену. Не мудрено, что там получилось только несколько более или менее крупных дыр, а у нас на месте замка осталась только груда мусора.
И этот средневековый вид романовского государственного здания заранее обеспечил львиную долю участия в его разрушении именно крестьянству, ибо русское крепостничество корнями глубоко уходило в деревню. 11редставим себе, что в городских центрах пролетариат захватил бы власть, но помещик прочно сидел бы еще в своей усадьбе: повторилась бы история Парижской коммуны 1871 года. «Деревенщина» при помощи французских денег легко справилась бы с восставшими городами—взяв их «голодной блокадой».
Но гигантский, неслыханный в Западной Европе, размах борьбы имел и свою оборотную сторону. Застоявшиеся феодальные отношения создавали и застойную идеологию. Подниматься приходилось с гораздо более низкого уровня, чем на Западе. Там еще живы были предания городских вольностей, парижский ремесленник впервые увидал баррикады не в 1789 году, а гораздо ранее, даже прусский мельник знал, что «есть судьи в Берлине», у которых можно найти управу и на самого короля. У нас средневековая идеология господствовала без всяких уступок. То, что коронованная верхушка крепостнического общества была так далека от народной массы, помогало этой массе строить и сохранять всяческие иллюзии.
Даже рабочим Петербурга в 1905 году трудно было отвыкнуть от мысли, что царь есть всеобщий отец; чтобы рассеять эту иллюзию, Николаю II пришлось применять сильные меры… И даже после 9 января в провинции рабочие шарахались при возгласе: «долой самодержавие!». А до крестьянства 9 января дошло еще гораздо позже—дошло после разгона двух дум, на которые во всей России одни крестьяне серьезно надеялись, после карательных экспедиций, раскрывших крестьянину глаза на то, что царь и помещик— одно.
И лишь там, где царь и помещик физически сливались, республиканские настроения легко и быстро проникли в крестьянскую среду. В Шенкурском уезде Архангельской губернии, где крестьянам приходилось иметь дело не с частными владельцами, а с «удельными», т. е. царскими имениями, уже в ноябре 1905 года заговорили, что царя совсем не надо, а землей должен управлять «выборный». И огромный сдвиг должен был произойти в сознании не только крестьянина, а и рабочего, чтобы он решился поднять руки на царя и его чиновников не во имя другого (более «истинного») царя, как это было при Пугачеве, а во имя низвержения всего царского государства.
В этом сдвиге весь смысл революции 1905 года и, в частности, октябрьской забастовки. Царизм остался на своем месте.
«В 1905—1906 годах крестьяне, собственно, только попугали царя и помещиков»,
писал Ленин в 1910 году в (Рабочей газете», оглядываясь на нашу первую революцию. Но еще больше, чем попугали они царя, они научились не бояться сами.
В этом колоссальное воспитательное значение первой революции. Это был предметный урок, без которого невозможен был бы подъем 1917 г.
Подходя ко второму Октябрю, не только рабочий— его массовая партия именно и выросла в первую революцию и на ее основе,—но и крестьянин твердо знал, где у него друзья и где враги. Только один еще предметный урок был необходим для окончательного просветления умов—империалистская война: и на него не поскупился царизм. И этим он устранил последнее препятствие, лежавшее на пути революции в 1905 году.
Военная сила и тогда была уже ненадежна для царизма, и чем ближе к театру тогдашней японской войны, тем она была ненадежнее. Но война была далеко, мобилизовано было лишь незначительное меньшинство населения, кадровые войска сидели в казармах, там дисциплина еще держалась, крестьянские иллюзии насчет царя еще прочно сидели и в солдатских головах. В 1914—1917 годах мобилизованы были все, фронт, в сущности, проходил под Петроградом, и ужасы этого фронта ни в какое сравнение не шли с тем, что видали солдаты на нолях Манчжурии[I].
И если манчжурский запасной 1905 года мог показать царю кулак только издали, в 1917 году царь и солдатский кулак оказались в самом непосредственном соседстве. Но сбить царя и оставить помещика это, мы видели, было бы явной нелепостью. Масса инстинктивно понимала то, о чем Ленин писал в 1910 году—что их обоих надо не пугать, надо уничтожить. Это великолепно понимали и сами помещики—французскому послу Палеологу в петербургских гостиных уже после февраля 1917 г. поминутно приходилось слышать, что теперь дворянскому землевладению пришел конец.
Этого не понимали за суетой только тогдашние, лета 1917 г., правители России, меньшевики и эсеры—слишком они были увлечены мыслью, как бы угодить своим заграничным заказчикам и как бы не проморгать Константинополя и проливов.
И нанести последний удар деревенскому феодализму, проделать последний этап буржуазной революции, по существу дела, пришлось уже второму Октябрю.
Но этот последний акт буржуазной революции был и первым актом революции пролетарской.
«Национализация в России, с точки зрения буржуазно-демократической, является необходимой»,
—говорил Ленин в апреле 1917 года.
«Но она необходима и потому, что является гигантским ударом для частной собственности на средства производства. Думать, что после отмены частной собственности на землю в России все останется по-старому,—это просто нелепость».
Нам теперь кажется это вещью, само собой разумеющейся; то, о чем не осмеливались мечтать перед 1905 годом стало бытом,—а еще в апреле 1917 года это приходилось доказывать.
1925
Примечание
[I]В Японскую войну русская армия потеряла 70000 убитыми, в империалистскую—2 700 000.