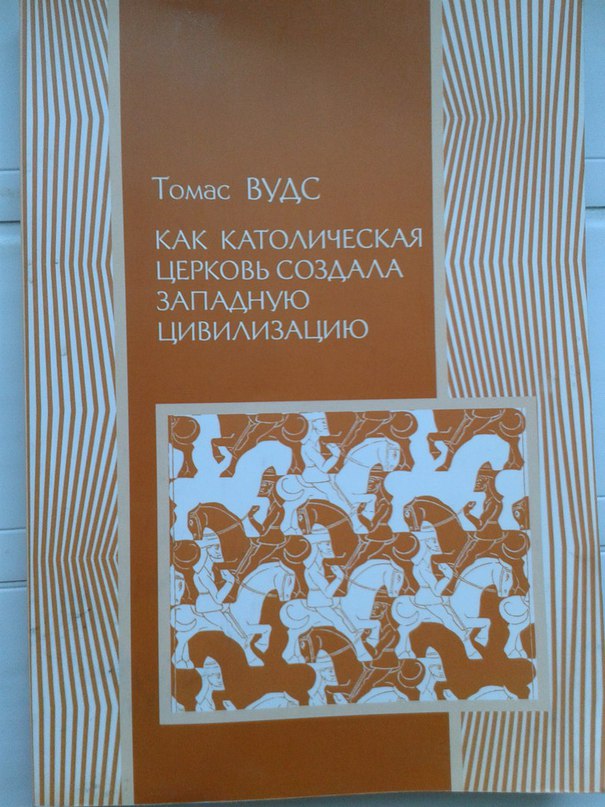При этом следует подумать о неизмеримой милости Спасителя, который не оставляет своей любовью ни праведника, ни безбожника. Праведному, кроткому, благочестивому, боящемуся его заповедей, он дарит награду вечной жизни и наделяет его высшим благом, которое есть Он сам, и созерцанием своего величия; а безбожнику, осуждённому на вечные муки, Он позволяет наслаждаться временными благами в этой земной жизни. Поэтому-то эти отверженные люди и владеют лучшими землями, имеют в изобилии хлеб, вино и масло, наслаждаются золотом, серебром, драгоценными камнями и шелками, утопают в благоуханиях и сладостях и не отказывают себе ни в чём, что приятно глазу.
Арнольд Любекский о мусульманах, «Славянские хроники»
Не так давно я ознакомился с книгой Томаса Вудса «Как католическая церковь создала западную цивилизацию» (М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010). Цель автора – развенчать «антихристианскую и антиклерикальную мифологию – тенденциозное изображение Церкви реакционной силой».
Признаться, хотя идеологическая направленность книги даже не скрывается, в определенном плане знакомство с данным опусом доставило мне немалое удовольствие – более того, для очевидным образом пропагандистской работы она весьма фактологична и содержит ряд сведений, опровергающих клише о Средневековье как о «навозных веках» и времени тотального интеллектуального застоя сравнительно со «светлой античностью».
Всё же нынешние верующие в глубине души маловеры – лучшим доказательством своей веры они считают мирские успехи; вспомним хотя бы современных мусульман, в условиях современного упадка исламского мира любящих ссылаться на достижения «золотого века ислама». Говоря о том, «что христианская церковь дала миру», автор говорит о науке, архитектуре, благотворительности, достижениях правовой и экономической теории. Само собой, «негатив» остается за скобками, но интересно даже не это, а то, что вкладу Церкви в развитие моральных ценностей посвящена всего одна глава. Одной моралью обывателя ныне не проймешь, требуется заинтересовать прагматически – не то что в прошлом, когда награда в вечности ещё что-то значила (см. эпиграф).
Разумеется, автору не чуждо и определенное святое лукавство – ставя вопрос как «что христианство дало мiру», он одновременно уклоняется от вопроса «что мiр дал христианству», в какой степени идеи христианства заимствованы у иудейских сект эпохи Второго Храма, эллинистических философов и из других источников1. Впрочем, не будем его за это строго судить – всякая религия исходит из того, что её «высшие истины» имеют первичный божественный, а не вторичный человеческий источник. Каждая религия учит, что она-то принесла на землю истинные моральные и культурные ценности, а до неё люди немногим отличались от зверей; христиане здесь совершенно неоригинальны.
Книгу, в принципе, можно разделить на несколько частей. Первая часть – довольно смешное и безудержное самовосхваление при рассказе о достижениях европейской цивилизации в период доминирования христианства в сфере, например, искусства. Смешное потому, что в рассматриваемый автором период христианство обладало идеологической монополией на истину; говорить о Церкви как о покровительнице искусства в условиях, когда Церковь как община верных пронизывала весь социум, значит допускать тавтологию. Впрочем, даже в таком беспроигрышном на первый взгляде деле, как рассказе о позитивном влиянии на искусство христианской Церкви в христианском мире, автор не смог обойтись без крайне показательных вранья и умолчаний.
Скажем, рассказывания о конфликте иконоборцев и иконопочитателей в Византии (VIII-IX века), автор сравнивает иконоборцев с мусульманами, запрещающими изображать людей. В действительности, однако, иконоборцы вовсе не были противниками искусства как такового: они лишь отвергали культ икон и скептически относились к изображению людей в религиозном контексте (но не к изобразительному искусству как таковому!). Светская живопись при императорах-иконоборцах, наоборот, активно развивалась, как и пасторали, а также изображения зверей и птиц. Также автор умалчивает о том, что не только иконоборцы уничтожали произведения иконопочитателей, но и наоборот – ведь это не впишется в его message. Интересно и то, что автор опустил тот факт, что сторону иконоборцев одно время занимал Карл Великий, владыка Франкской империи – возможно по той причине, что Карл был покровителем Папства, а автор как апологет католицизма не хочет ронять тень на его представителя2:
Римский папа пытался вступить в полемику с Карлом Великим, но Карл так упорно стоял на своем, что папа вынужден был отступить. Карл созвал собор во Франкфурте в 794 году. На этом соборе он осудил иконопочитание так, как оно было догматизировано VII Вселенским Собором, причем на этом соборе присутствовали представители того самого папы Адриана I, который за несколько лет до этого отправил своих представителей на VII Вселенский Собор, и они приняли осуждение Собора на Франкфуртском соборе. И хотя на Западе проблема иконопочитания никогда не имела такого живого значения, как на Востоке, все-таки для папы это была тяжелая и унизительная уступка. Эта уступка говорила о том, насколько уцепились папы за нового могущественного покровителя.
Прот. В.В.Асмус. История Церкви. Лекция 13.
Или, например, опять же тавтологично восхваление монашества как силы, в условиях катастрофического упадка бывшего римского мира в условиях нашествий извне (германцы, арабы, скандинавы, венгры) сохранившей культурное наследие античности и способствовавшей реорганизации экономики. Само собой Церковь как сила, обладающая относительной (по крайней мере формальной) неприкосновенностью, безусловным авторитетом, солидарностью и внутренним братством в реалиях мира западного Средневековья, раздробленного и переполненного насилием, должна была сыграть ведущую роль в интеллектуальном и хозяйственном развитии средневекового Запада.
Автор трогательно печалится о том, какой удар по благотворительности нанесла конфискация собственности монастырей, например Генрихом VIII в Англии и революционерами во Франции. То, что монастырь в христианских странах выступал в качестве коллективного феодала, эксплуатирующего крестьян также, как феодал светский (особенно в таких странах, как Германия, где многие епископы могли обладать статусом светских правителей), игнорируется – наоборот, применительно к Англии читатель уверяется, что
«монастыри были щедрыми и лояльными к арендаторам арендодателями».
Кстати, о благотворительности. С ней у автора вообще особые отношения – скажем, доказывая христианский приоритет в этом вопросе, он, конечно, вынужден упомянуть о существовании благотворительности в языческой античности. Но, ссылаясь на другого исследователя, он убеждает читателя в том, что та была вызвана корыстными интересами (государственная помощь бедным преследовала политические цели), а так-то античный мир нередко страдал от голода и нужды, а язычники из-за этого были вынуждены даже тем или иным путем избавляться от собственного потомства. Говорится об этом так, как будто христианское Средневековье никогда не знало подобного!
Если отжать из той части книги, где рассказывается о благотворительности, монастырях и университетах, всю «воду» и пропаганду, то в сухом остатке получается вот что: христианская Церковь, в особенности католическая, оказалась столь эффективна потому, что выстроила эффективную централизованную глобальную структуру, одновременно иерархическую и в чем-то эгалитарную. Но какое отношение это имеет к христианству как религии, а не организации? Раннее, доконстантиновское христианство3, например, сравнимых успехов не достигло – не в последнюю очередь по той причине, что не обладало подобной структурой, равно как и государственной поддержкой.
Занимательна та часть, где автор берется доказать позитивное влияние христианства на становление науки. Помимо самоочевидных аргументов (роль монастырей и университетов), он берется утверждать, что у языческих и, шире, нехристианских цивилизаций из-за отсутствия идеи трансцендентного Бога нет концепции универсальных законов Вселенной, которые можно изучать с помощью науки. И – даже не беря во внимание фактические ошибки и неточности, допущенные автором – сам метод подобной аргументации вызывает некоторые вопросы с точки зрения добросовестности.
Объясню через аналогию. В свое время Макс Вебер, исследуя картину мира протестантизма, утверждал, что протестантское мировоззрение особо благорасположено для формирования капитализма4. Недостаток подобной системы аргументации очевиден: в последствие не значит вследствие. Нетрудно – зная, что именно протестантские страны в XIX-XX веке стали лидерами капиталистического мира – найти в протестантизме черты, которые «с железной неизбежностью» ведут к торжеству капитализма как строя. Так, пока Китай был в упадке, конфуцианская этика считалась тормозом его развития; как только страны Восточной Азии перешли к капитализму, в ней увидели элементы, этому благоприятствующие5. В обоих случаях использовались аргументы «веберовского» типа.
Точно также и здесь. В представлении христиан (как мы позже увидим – не только их) о трансцендентном Боге, установившем законы Вселенной, можно увидеть предпосылки для формирования науки – но можно их увидеть и в представлении многих язычников о Роке или космическом Законе, которому подвластны даже боги. Главное – чтобы смотрящий был заинтересован в «правильном» выводе, а остальное приложится. При желании, спекулируя, можно даже предположить (при полной безнаказанности, поскольку проверить этот тезис невозможно), что, доживи фаталистическое язычество до Средневековья и выработай свою «ортодоксию», оно бы также двинуло науку вперед.
Автор утверждает, что картина мира язычников предполагала6, что боги не трансцендентны, а имманентны, и стихии могут обладать собственной волей. Тут он умалчивает о античных эвгемеристах, скептически относящихся к мэйнстримному языческому культу и считавших богов не более чем обожествленными смертными. К слову, христиане древности в этом отношении были честнее (или интеллектуальнее) своих наследников – Климент Александрийский, например, писал о последователях Эвгемера:
«Ведь хотя они и не постигли истину, но предположили ошибку. Этот проблеск разума — отнюдь не малое семя, из которого произрастает истина».
Да и среди самых ранних греческих философов можно вспомнить хотя бы Парменида, чье противопоставление Бытия и Сущего далеко от обожествления материального мира7.
Но если от языческого мира мало осталось и мы судим о нем, по сути, лишь по тому, что сохранили для нас христиане, то применительно к исламу суждения автора принимают особенно бесцеремонно-априористский характер:
«Ортодоксальные исламские ученые отрицали любое представление о Вселенной, где правят единые физические законы, так как никакие законы не должны и не могут ограничить всемогущество Аллаха».
Ни на одного исламского ученого автор при этом не сослался, хотя в Коране существуют суры, противоречащие подобной интерпретации8, да и представление о трансцендентном Боге в исламе на данный момент господствует – то есть тут автор не может использовать даже тех отговорок, что использует с язычеством.
[В исламе, как и в христианстве, наука и философия, едва возникнув, ощущали господство религии как проблему и бремя, а не достоинство, и пробовали освободиться идеями вроде «истины двойственной». Бог, как его описывали учёные мусульмане и иудеи в средневековье, быть может и существует, но им не нужен ни как основание, ни как гипотеза — примерно как и Лапласу; разве что для поддержания порядка в обществе. Прим.публикатора]
Опять же, Бог в христианстве – как, впрочем, и в других авраамических религиях – не является полностью трансцендентным: достаточно посмотреть на культ святых мощей, святых предметов, святых мест (последовательно отвергли это лишь некоторые протестантские секты, но автор католик). Опять же, представление о постоянном вмешательстве Бога – в том числе противоречащем физическим законам – в процесс мировой истории очевидным образом разрушает тезис о непоколебимых законах Вселенной. Можно в духе схоластической демагогии сказать, конечно, что Вселенная устроена рационально за вычетом случаев божественного вмешательства в мироздание, но в таком случае и язычники верили во вполне себе «рациональную» вселенную9.
Интерес представляет авторский пассаж:
«Вавилонская космогония совершенно не способствовала развитию науки, скорее наоборот. Вавилоняне считали естественный порядок до такой степени фундаментально неопределенным, что, с их точки зрения, только ежегодный ритуал жертвоприношения мог дать надежду на предотвращение космической катастрофы».
Но если отбросить демагогию в духе «это же совсем другое дело», то чем авраамическая вера в то, что человеческие грехи приближают божественное наказание или даже гибель мира принципиально отличается от этой модели? Особенно если вспомнить, что даже иудаизм как религия (от которого позднее ответвились христианство и ислам) восходит к месопотамско-переднеазиатской системе верований.
Но перейдем от чисто философско-концептуальной стороны вопроса к практической. Стремясь доказать христианское первенство в создании научной картины мира, автор идет на ряд умолчаний, граничащих с обманом читателя. Так, критикуя Аристотеля (который у него отдувается за античных язычников скопом) за пренебрежение практическим подтверждением умозаключений, он умалчивает о том, что уже ученые эпохи эллинизма отказались от умозрительных фантазий и перешли к практической проверке своих теорий, что дало бурный скачок в науке, красочно расписанный в соответствующей главе работы Уильяма Тарна, посвященной эпохе эллинизма.
[Да и раньше эксперимент использовался, см. известную книгу А.И.Зайцева:
«Попытки отказать древнегреческим исследователям природы в статусе научности на том основании, что греки якобы не использовали основной прием науки —эксперимент, также не основательны. Соотношения между длиной струны и высотой звука были обнаружены экспериментально уже ранними пифагорейцами и исследовались с помощью пусть элементарно простого, но все же физического прибора — монохорда. Сочинения Стратона из Лампсака утрачены, но сохранившиеся свидетельства говорят за то, что он развертывал экспериментальное изучение физических явлений. Архимед излагал свои достижения в области теоретической механики в форме дедуктивных построений, но открыл он доказываемые закономерности, в частности, основные положения статики, развитые в его раннем сочинении «О равновесии плоских тел, или о центрах тяжести плоских тел», разумеется, путем опыта.
Даже один из постулатов теории рычага (шестой): «Если две величины, находясь на известных расстояниях, уравновешивают друг друга, то и равновеликие им величины, находясь на тех же расстояниях, уравновесят друг друга» (в современной формулировке: если нагрузку одного из плеч рычага заменить другой, равной ей по массе и имеющей центр тяжести на той же вертикали, то равновесие не нарушится) не мог быть принят Архимедом иначе как после тщательной проверки: он никак не принадлежит к числу самоочевидных. На экспериментах были основаны и оптические исследования Архимеда, результаты которых были изложены им в не дошедшей до нас «Катоптрике».7
Пути развития только что вставшей на ноги греческой науки были в основном сходны с тем, как двинулась затем вперед наука Нового времени, но развитие греческой науки было пресечено быстрым изменением общественного климата в эпоху эллинизма. Наступил конец эпохи «культурного переворота», и греческая наука так и не вступила в союз с техникой, что могло бы в какой-то мере стимулировать ее развитие; она была обречена».«Общеисторическое значение возникновения науки в Древней Греции в ходе культурного переворота«. Прим.публикатора]
Стремясь обосновать, что именно христианская концепция Вселенной, управляемой рациональным божественным законом, дала современную науку, автор готов принизить даже выдающихся ученых-христиан:
«…некоторые авторы, такие как Уильям Оккам, время от времени настолько акцентировали абсолютную волю Господа, что это могло препятствовать развитию науки, но большинство христианских философов считали Вселенную принципиально упорядоченной». О том, как в действительности Оккам «препятствовал развитию науки», можно почитать, например, здесь. Не Оккам, а именно его оппоненты-реалисты, отстаивавшие объективное существование универсалий, держались за устаревшие метафизические концепции Платона и Аристотеля10.
Рассказывая о вкладе католической Церкви в европейское право, автор хвалит Церковь за отмену ордалий, из которых, по его утверждению, будто бы и состояло варварское правосудие. Однако, в действительности, варварское право вовсе не сводилось к ордалиям: так, у язычников-исландцев существовал полноценный судебный орган, альтинг. У язычников-ирландцев хранителями законов были брегоны. После христианизации Исландии и Ирландии соответственно альтинг и брегоны продолжили существовать, что говорит о том, что христиане этих стран считали данные институты эффективными средствами поддержания законности в обществе.

Исландцы на альтинге эпохи народовластия
Опять же, такой вполне христианский орган юриспруденции, как инквизиция, для охоты на ведьм, помимо банального давления на жертв и их запугивания, прибегал к классическим методам ордалии, таким, как испытание водой или прокалывание «меток дьявола». Вообще история с охотой на ведьм может служить настоящей эпитафией «роли Церкви в развития правосудия» — даже не по причине лживости обвинений или огромному числу невинных жертв, а потому, что Церковь, ранее отрицавшая само существование ведовства как языческого суеверия, теперь взялась за борьбу с ним (не в последнюю очередь по той причине, что это давало возможность обвинить еретиков в колдовстве и связи с сатаной).
Опять же – говоря о праве, не стоит забывать, что не только Церковь, но и светские властители, в том числе откровенно враждебные Папству, такие как Фридрих II Гогенштауфен, всячески поддерживали внедрение римского права в своих владениях. И причиной тому было не только и не столько то, что они так уж пеклись о правосудии, сколько то, что римское право отстаивало приоритет верховной власти суверена – достаточно вспомнить юристов-легистов на службе знаменитого французского короля Филиппа IV Красивого, обосновывавших его неограниченное господство.
Откровенная ложь начинается, что характерно, там, где речь заходит о моральных вопросах [ложь во спасение для верящих в бога обычна, а часто и обязательна. Прим.публикатора].
«В древности <подразумевается, что языческой – прим. автора> к бедным обычно относились с презрением, и сама мысль о том, чтобы помочь обездоленному просто так, без расчета взаимность или какую-либо личную выгоду, иногда казалась странной».
В действительности именно в языческих цивилизациях Передней Азии и Средиземноморья был создан тот идеал гуманизма и человечного отношения к людям, на котором ныне спекулируют религии спасения – достаточно вспомнить социальные реформы Солона в Афинах, Бокориса в Египте и предвосхитившие их мероприятия в семитских и шумерских городах-государствах по установлению «справедливости», то есть списания долгов и освобождения людей, обращенных в долговое рабство.
Но интересно тут не то, что автор искажает истину или выдает отдельные примеры за общую тенденцию11, а то, что в дальнейшем, рассуждая о морали уже в христианском социуме, он резко меняет критерии оценки. Прославляя христианство за достижения христианской Европы на ниве наук, искусств, экономики и права, автор прославляет его за дела – поскольку, хотя христиан, несомненно, радовали эти успехи, приоритетны для них были духовные задачи. Прославляя христианство за достижения на ниве морали, автор рассуждает на этот раз зачастую о добрых намерениях – классический пример здесь это упоминание в главе о правовой мысли о католических мыслителях, пришедших к идее о недопустимости насильственного обращения нехристиан или захвата их собственности.
Как мы знаем, это так и осталось в области благих пожеланий (не говоря уж про теорию «справедливой войны», служившую скорее лицемерию, чем справедливости) – также, как и (отчасти) стремление людей вроде Лас Касаса гуманизировать обращение с народами колоний. Автор красочно описывает то, как Церковь осуждала, например, дуэли (от себя добавлю – и турниры, вплоть до утверждения, что погибшие на турнирах попадут в ад) – но разве это помешало их процветанию в аристократических кругах до начала XX века? Или, скажем, церковь осуждала не только женское, но и мужское прелюбодеяние, но что же оно сделала, чтобы добиться реального равенства полов во взаимоотношениях между собой? Автор отвечает – запретила разводы. Церковь на словах осуждала браки по принуждению и требовала взаимного согласия сторон – но в Средневековье и Возрождение это также нередко оставалось не более чем благим пожеланием.
Конечно, у христиан на то есть универсальная отговорка – несовершенство человеческой природы. Но сам же автор невольно отрезал себе этот путь для отступления, рассказав о таких достижениях христианства, как запрет гладиаторских боев и маргинализация самоубийства (в чуждых авраамизму цивилизациях, таких как Восточная Азия, процент самоубийств выше и отношение к ним совсем иное). Так почему же одни пороки христианство успешно изжило, а другие при его правлении процветали? Автор предпочитает на этом не останавливаться во избежание весьма неприятных выводов.
Но, пожалуй, самое интересное в книге – это то, что автор-либертарианец, помимо прочего, в рамках своего апологетического экскурса по католической Европы подробно и с восхищением пишет о ученых теоретиках «свободного рынка» из Саламанкской школы в Испании XVI-XVII веков. Пожалуй, тут есть своеобразный символизм – если начинали радикальные приверженцы «свободного рынка», такие как Айн Рэнд, с крайнего антихристианства, то теперь подобного рода мировоззрение защищается с консервативных позиций людьми, прямо апеллирующими к схоластике.

Martín de Azpilcueta, один из авторов Саламанкской школы, писавших о теории ценности, денег и цен
Примечания
1 Скажем, высмеивая представления античных язычников о мире, автор забывает уточнить, что концепция Бога-Перводвигателя, которую он отстаивает как источник ряда передовых научных достижений, изобретена именно ими – за (полным) отсутствием у иудеев до контакта с греками какой-либо философии.
2 Впрочем, объективности ради, Карлова поддержка иконоборцев была связана в немалой степени с тем, что Византийская империя, с которой у него назревал конфликт, тогда склонялась к иконопочитанию.
3 Кстати, в какой степени христианством является религия, догматика которой создана на соборах, где милостиво изволил председательствовать император-солнцепоклонник – отдельный большой вопрос.
4 Сам Том Вудс, кстати, помимо того, что католик, так ещё и американский либертарианец, видит, напротив, в кальвинистской системе ценностей с её пиететом перед трудом истоки трудовой теории стоимости и марксизма [как и многие кальвинисты. Прим.ред.]. Вот классический пример того, как из одной из той же системы ценности сделать прямо противоположенные выводы – но этот пример не заставляет Вудса задуматься над его собственной схемой.
5Я бы добавил, что автор рассматривает лишь плюсы веры Христовой для научных занятий, не говоря ни слова о минусах, вроде отмеченных у Альфонса ДеКандоля (и действующих для любой веры). Последний показывает, что религия тем совместней с успехом в науке, чем сильней эти минусы нейтрализованы — что определяется институтами, не догматами, и протестантизм здесь сильно опередил католичество.
Другой пример: легко показать что чем больше евреи освобождались о власти отеческой веры и других составляющих еврейской традиции, тем более они были успешны в науке, медицине, свободных искусствах, или политике — поболее христиан, вступивших на эту стезю раньше. Однако сейчас, когда они выбирать род занятий более-менее независимо от веры с традицией, вновь появились талантливые верующие учёные. Т.е. ситуация когда вера пронизывает всю жизнь,в отношении других достоинств и талантов человека скорей плоха, т.к. ревнива и не позволяет сочетать одно с другим. Прим.публикатора.
6Лукавство этого тезиса состоит уже в том, что, например, в языческой религии эллинов ввиду эмансипации философской мысли от господства жречества не существовало некой общепринятой догмы, и даже в жреческих языческих культах догма отличалась от города к городу ввиду отсутствия Церкви как института.
7 В античном мировоззрение, которому антихристианские авторы вроде Ницше часто пытались приписать «жизнерадостность», ещё задолго до знакомства с иудаизмом существовала тенденция к представлению о мире как могиле и месте страдания (орфики, Эмпедокл, отчасти Платон). У Цельса в «Правдивом слове» сказано:
«Обращение Зевса к Гере — это речь бога, обращенная к материи; речь к материи намекает на то, что бог овладел этой материей, бывшей вначале беспорядочной, связал ее законами и привел в порядок; а находившихся вокруг нее демонов, поскольку они были необузданны, он наказал и низринул по пути вниз».
8 Например: «Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру» (сура «аль Фуркан», «Различение», аят 2). Или: «Солнце и Луна движутся согласно рассчитанному порядку» (сура «ар-Рахман», «Милостивый», аят 5). Опять же, ислам – ярко выраженная детерминистическая религия, предполагающая, что Аллах заранее предопределил, кто из людей спасется, а кто попадет в ад – что предполагает наличие у него определенного божественного плана, которого Аллах должен придерживаться неизменно.
9 Собственно, если над античным язычеством довлел лишь груз собственных суеверий, то интеллектуалы авраамических религий помимо ортодоксальной догматики подвергались влиянию унаследованного от язычества оккультизма – достаточно вспомнить, какое количество мыслителей Средневековья и Возрождения находились под влиянием астрологии и неоплатонического мистицизма.
10 Вообще автор, восхваляя христиан за сохранение античного наследия, умалчивает о том, что любовь к нему сыграла с католической ортодоксией дурную шутку – ряд весьма сомнительных идей язычника Аристотеля был воспринят схоластикой и защищался ей, а важную роль в деконструкции аристотелианства сыграли критиковавшие официальную Церковь протестанты. Скажем, погибший во время Варфоломеевской ночи гугенот Петр де ла Раме (Рамус) до этого преследовался за критику учения Аристотеля. [А спор об универсалиях, из коего родилась современная наука, был спором о примате божественного интеллекта или божественной воли. Защищавшие «волю» — те самые номиналисты: Оккам, Дунс Скотт, Рогир Бэкон — делали отсюда закономерный вывод о необходимости изучения следов её проявления в природе, мире вокруг и человеческой природе, дальнейшее понятно. Прим.публикатора]
11 Скажем, ссылаясь на мнение Платона о необходимости оставлять на смерть больных и неспособных работать, он забывает, что социальная утопия Платона не была мэйнстримом для тогдашней Греции.