Резюме. В продолжение спора Троцкого и Покровского — анализ А.В.Головнёвым русской колонизации Севера и Сибири, происхождения и действия конкретных практик, использованных колонизаторами, их следствий для аборигенов и страны в целом (и в продолжение аналогичного материала про Аляску — крайнюю точку порыва колонизации). Важно, что это объективный научный анализ, рассказывающий, что было сделано, почему и как, к чему привело, без «испарений морали», смертельных для истины, но, увы, почти обязательных для западных исследователей по известным причинам. Лакировка действительности, с отмыванием чёрного кобеля добела, когда слом, подчинение и эксплуатация аборигенов представляются чем-то хорошим и правильным, в общем не лучше, но с этой — правой позиции — научных исследований почти нет, лишь литература и пропаганда, да они и вряд ли возможны.
Марксизм именно потому «не содержит ни грана этики», что притязает на научный подход. Прежде оценивания, хорошо или плохо, следует выяснить без гнева и пристрастия, что именно произошло, как и почему — во всех подробностях. Только потом можно судить и рядить, «что хорошо и что плохо» из этих последних для разных акторов процесса, сравнивая соотношение плюсов и минусов для каждого из них, когда рассказывают только о первых или вторых — перед нами не научный анализ, а голимая пропаганда. Которая плоха в том числе и для самих пропагандистов, особенно когда движима законным и правильным состраданием к угнетённым: ведь нельзя играть в шахматы с помощью добрых намерений.
***
«Отечественные и зарубежные историки и геополитики то с восхищением, то с недоумением обсуждают стремительное продвижение русских от Урала до Тихого океана в XVII в.
Какая же сила влекла в Восточную Сибирь казаков-разведчиков, заставляя их претерпевать холод, голод, неимоверные труды и лишения? <…> Казацкие экспедиции в Восточную Сибирь предпринимались в сущности для грабежа, как и экспедиции казаков на Волгу, на Каспийское море, на Азовское и Черное, с той только разницей, что в Сибири им покровительствовало государство (Любавский 1996:447).
Эпоха Тюдоров, увидевшая экспансию Западной Европы на морских просторах, лицезрела и то, как Русское государство продвигалось от Москвы в сторону Сибири. Бросок всадников через всю Азию на восток был событием, в той же самой мере чреватым политическими последствиями, как и преодоление мыса Доброй Надежды, хотя оба эти события долгое время не соотносили друг с другом (Макиндер 2003:24–25). Начиная с 1620-х годов русские служилые люди, идя по следам промышленников, в неимоверно короткое время обошли все обширные пространства земель к востоку от Енисея до Восточного океана.
На Лену и дальше на Восток ринулись искатели добычи и приключений отовсюду, из всех углов русской Сибири — из Мангазеи, из Енисейска, из Тобольска, даже из Томска: служилых людей охватила какая-то горячка — шли вперед, на свой риск, в погоне за наживой. Поиски «новых землиц» производились без всякой системы, небольшими партиями служилых людей, иной раз в несколько человек; «вожами» в эти «далекие от века неведомые земли» являлись промышленные люди, при непосредственном участии которых совершались наиболее рискованные предприятия (Бахрушин 1955:152). Людские ресурсы, которыми Москва располагала для покорения Урала и Западной Сибири, были крайне невелики. Удивительно, как при этом Русскому государству удалось за какие-то сто лет присоединить к себе эти земли (Нольде 2013:292).
Почему русским удалось в баснословно короткое время пройти вдоль северной анэйкумены через Сибирь и достичь Тихого океана, создать громадное имперское образование, которое проникло в американское пространство вплоть до бухты Сан-Франциско и лишь под сильным нажимом англосаксов, а позже китайцев и японцев, вынуждено было отступить назад?
Решающим был все же тот факт, что продвигавшийся в Северную Америку русский не считал эти пространства незаселенными и поэтому проникал туда, в то время как другие крупные народы мира, в том числе восточноазиатские, с чьим жизненным пространством он скоро соприкоснулся, считали их непригодными для жизни, не имеющим ценности пространственным владением… Перед китайцами лежали земли на Амуре, которые они считали непригодными для жилья, не представляющими ценности для огосударствления. Они стояли на Амуре, как Древний Рим — на Дунае и Рейне, наблюдая за рекой, но ничего не организуя там (Хаусхофер 2001:60).
Русские землепроходцы добрались в 1643 г. до бассейна Амура, в 1696 г. они обследовали огромный полуостров Камчатку, а в следующем столетии достигли Аляски, где русские колонисты обосновались в 1799 г. Это было быстрое, хотя и хрупкое — но оттого тем более заслуживающее восхищения — мирное завоевание (Бродель 1986:114).
Как чудовищный каток, империя, подминая под себя десятки сибирских племен и народов, тысячами своих активных членов докатилась до побережья Тихого океана и, толком даже не заметив его, перевалилась в Северную Америку (Кызласов 1996:55). Если англичанам понадобилось 125 лет, чтобы пройти Америку поперек от Атлантики до Тихого океана, и 225 лет — с севера на юг, то русские вдоль всей Сибири от Урала до Тихого океана «пробежали» за каких-то 75 лет, а к границам современной России в Азии — за 120–130 лет (Резун, Шиловский 2005:121).
Русское движение «встречь солнцу», поражающее своей стремительностью, было вызвано поиском земель, богатых пушным зверем, прежде всего соболем, который в XVII в. выполнял в России роль важнейшего товара («мягкого золота»). Погоня за соболем сыграла главнейшую роль в продвижении за Урал, она же стимулировала дальнейшее движение до берегов Тихого океана (Зуев 2009:34). Было ли русское движение «встречь солнцу» на самом деле движением встречь соболю? Высказывания историков о «пушной лихорадке» (fur fever) дополняются размышлениями о ее сходстве с золотой лихорадкой в Америке, о персональном участии в меховой торговле царя — «первого бизнесмена России» (Любавский 1996:448; Fisher 1943:28, 142–145; Forsyth 1992:40, 41). Воздействие пушной торговли было столь велико, что она
«ввела новую систему отношений в циркумполярном мире, которую правильнее всего назвать доиндустриальным колониализмом» (Southcott 2010:30, 31).
Последний из цитируемых авторов, Крис Саускотт, узнав, что я пишу эту книгу, сказал мне в тоне дружеского напутствия:
«Конечно, ты покажешь, как русских влекли меха», и был озадачен моим ответом: «Что меха в сравнении с волей? К тому же русские — не самые искусные торговцы, и чем дальше они углублялись в Сибирь, тем реже возвращались назад».
В приведенных выше цитатах упоминается «империя», однако на самом деле не империя осуществляла экспансию, а экспансия рождала империю. Колониальная гонка развернулась в самой, казалось бы, неподходящей обстановке, когда пораженное Смутой Московское царство само едва не превратилось в колонию. Эта историко-антропологическая загадка имеет отгадкой обширность и устойчивость России.
Наказ князю Горчакову: инструкция по колонизации
Борис Годунов стяжал славу виртуозного колонизатора уже в бытность свою правителем при Федоре Ивановиче, когда он со своими подручными, прежде всего дьяком Андреем Щелкаловым, скрупулезно выверял каждый шаг продвижения на юг и восток. Разработанный под его контролем наказ воеводе кн. Петру Горчакову 1592 г. о походе на Пелымское княжество, к которому дважды безуспешно подступал Ермак, выглядит образцовым пособием по колонизации (текст наказа см: РИБ 2 1875:103–120; Миллер 1 2005:339 –346).

Источник geochar
Главные роли в походе отводятся воеводам кн. Петру Горчакову и Никите Траханиотову, а первым действием определяется поиск поддержки среди туземцев-вогулов. Горчакову предписывается по прибытии в Пермь разослать приехавших с ним из Москвы детей боярских к вогулам на реки Ляля и Вишера, причем в сопровождении людей, «которые бы умели по-вогульски говорить», с задачей собрать на государеву службу полсотни вогулов (по 26 с Ляли и Вишеры) во главе с сотниками. Тем временем Горчаков, переместившись с «нарядом» в Лозьвинский городок, встречает собранный вогульский отряд. Туземцев уверяют в том, что московский государь к ним благоволит, обещает им легкую дань, а ныне жалует деньгами и хлебом: вогулы получают деньги (по два рубля — сотники, по рублю — рядовые) и муку (по чети на человека).
Наказ содержит точную калькуляцию «государева жалованья» (52 чети муки и 54 рубля), которое везет с собой на Лозьву князь Петр. Этот ход мотивирован не только и не столько нуждой пополнения войска, сколько задачей раскола стана пелымского князя Аблегирима. Методы привлечения вогулов, в том числе уговоры на родном языке, «государево жалованье» и включение в московскую рать, позволяют использовать (отныне) «служилых» вогулов в качестве проводников и заложников, а также искушать их примером других туземцев, держа князя Аблегирима в напряжении и неопределенности.
Второй приоритет состоит в «государевом судовом деле». Наказ предусматривает заблаговременную подготовку Иваном Нагим «больших судов, малых судов и стругов гребных». Воеводам же вменяется тщательный досмотр и опись судов, включая старые, новые и прибывшие с государевой казной из Сибири. При выявлении недоделок им предписывается «тотчас велети суды делать и конопатить наспех неотступно день и ночь», отрядив на это всех людей, чтобы к весне, когда сойдет лед, флотилия была укомплектована. Дотошность составителей наказа кажется избыточной, когда речь заходит о росписи судов по людям и о сбережении провианта и вооружения от дождя —
«хлебные запасы и наряд и пушечные запасы в суды покласти и укрыти гораздо, чтобы государева запасу не подмочило».
В этой рачительности выражен не только стиль московских бюрократов, но и опыт речных походов — стратегического средства русской колонизации.
Третье по последовательности действие состоит в устройстве острога (городка). Горчакову следует «присмотреть под город место, где пригоже», и, согласовав выбор с Траханиотовым,
«на чертеж начертити и всякие крепости выписать».
При этом рассматриваются варианты занятия старого вогульского городка или постройки нового (в этом случае старый надлежит «разорити, чтоб у тоборовских людей города не было»).
В начале строительства следует «всею ратью лесу припасти»: служилым казакам —заготовить по 5-ти бревен, а пермичам, вымичам и усольцам — по 15-ти (или по 10, «как будет пригоже»). Первым делом нужно наскоро срубить острог из «легкого леса», а затем «город обложити всеми людьми вместе». Воеводе Траханиотову с ратью надлежит стоять «туто с неделю, покамест острог укрепят», а после его ухода в Тобольск Горчакову
«велено быти в Тоборах и город доделывать наспех, чтоб город зделати вскоре».
К строительству привлекаются и вогулы — прибывшая с русской ратью полусотня (под началом уже не своего сотника, а сына боярского), а также «тутошние люди пелымские вогуличи», собранные «с 3-х луков по человеку с топоры» (каждый третий мужчина). Однако вогулов рекомендуется «беречься» и использовать только на лесоповале и доставке леса к острогу,
а в город «не пущать», «и им дати место возле острогу, а с русскими людьми бы им не быть».
Четвертое действие — поимка и ликвидация непокорного вогульского князя и его приближенных в течение недели (или десяти дней). Воеводе Траханиотову следует
«приманить Пелымскаго князя Аблегирима, да сына его большаго Тагая, да племянников егода внучат Пелымскаго, тех всех приманив, извести, и лутчих его людей пяти-шести, которые самые пущие, от которых смута была, про тех сыскав, переимав их, извести».
Инструкция обращается повторно к теме «приманивания», предлагая воеводам сочетать напор и лукавство:
«А будет Пелымской князь Аблегирим слышит ратных людей и к воеводам не приявитца, а почнет бегать, и воеводам Микифору Васильевичю с товарыщи, став против Пелымки на старом городище, послать ратных людей в малых судех ото всех воевод искать Аблегирима Пелымскаго, и жоны и дети их и люди воевать и побивать, и городок его жечи».
Пока Траханиотов занят рассылкой поисковых групп, Горчаков должен убеждать вогулов в том, чтобы они «пошли без боязни ко государевым воеводам и Пелымского князя привели, а государь их пожалует, и Пелымскому князю ничего не будет. А будет Пелымской князь и дети его придут к воеводам, и их обнадежить, чтоб их всех приманити». Но даже в случае добровольной явки пелымского князя приговор наказа неумолим:
«А приманя князя Пелымского Аблегирима и детей его по тому ж, самого князя и сына большего казнить, да с ним 5–6 человек пущих, сыскав, казнить».
Милость предусмотрена лишь для младшего княжича и простолюдинов:
«А меньшего сына Таутия и з женою и з детьми отпустить с Микифором в Тобольской город ко князю Федору к Лобанову… А черных людей всех примолыти и обнадежить, чтоб жили по своим юртам и в город приходили».
В наказе заложен выверенный годами опыт оперативного расчленения и подчинения элит, что было едва ли не самым эффективным методом военно-административной колонизации.
Пятое действие — обустройство колонистов-кормильцев, которых наказ называет «жилецкими людьми» или просто «жильцами». Князю Горчакову с помощью Семена Ушакова следует
«жилецких пашенных людей… устроить по городу, людей оставить и хлебные запасы… и велети житницы делати плотником в ту же пору тотчас, как город почнут делать… и места под дворы роздавати жилецким людем и казаком».
В числе поселенцев значатся «веденцы» — приведенные воеводами жилецкие люди из Каргополя (9 человек), с Вятки (20) и Перми (20). По инструкции, «веденцы» берут с собой из дома лошадей (хотя бы одну на четверых), скот, сохи («хоти немного, чтоб им пашни вскоре завести»), семенную рожь «на завод 10 чет». Жен и детей пермским веденцам велено пока не брать, а съездить за ними только на следующий год, после того «как они устроятся… дворы себе поставят и пашню распашут» (вятским веденцам, за отдаленностью их края, дозволяется сразу ехать с семьями).
Предусматривается, что «жильцами» станут и некоторые ратные люди:
«А которые захотят в жильцы туто изо всяких из ратных людей, и князю Петру их переписати. А устроить туто 50 человек конных, тем и земли пометив роздавать. А жалованья годового сулить им польским казаком по 7-ми рублев, а атаману 10 рублев, а хлеба по 7-ми чети муки, а овса потому ж… А земли бы им всем давати, чтоб вперед всякой был хлебопашец, и хлеба не возить».
Близ города велено устраивать слободы
«в котором месте пригоже, и земли на пашни высмотреть лутчие, и у крепостей подавать пашни на государя пахать всяким людем. А лутчие места пашенные выбрав оставить под государев обиход до трех сот чети, а вперед та земля пахать на государя жилецким людем, которых устроят на житье».
К пашне привлекаются и туземцы из Тоборов и Кошуков, которых следует переселить к городу
«со всеми семьями и с лошадьми и посадить туто на пашне в Тоборах, где город станет, и пашни пахати велети на государя. И на Тоборы и на Кошуки на тутошные люди положить хлебом оброк, чтоб с них не имать никакого оброку, ни соболей, а имать бы хлебом».
Шестым действием следует доставить в новый город
«образы, и книги, и колокола и все церковное строенье; а попа в тот новой город в Тоборы… взять из Перми Углетцкого, а дьякона, едучи в Сибирь, взять в Ростове, которого владыка велел выбрать, и подмогу тому дьякону взяти в Сибирь с попов с посадских и с уезду 40 рублев… А приехав в Тоборы, как город обложат и почнут делать, и в ту пору велети князю Петру и церковь поставить всею ратью, Рождество Христово, да в приделе Никола Чудотворец, и церковное строение велети устроить, и церковь освящати велети. Да с ним же со князем Петром послано с Москвы 2 фунта ладану, 2 фунта темьяну, да пуд воску, да ведро вина церковнаго».
Этот пункт (со ссылкой на волю царя Федора Ивановича) венчает куполом храма проект обустройства колониального форпоста.
Попутно в наказ вписана «память», обнаруживающая руку распорядителя. Одно из поручений Горчакову касается разбоев, устроенных по дороге в Сибирь атаманом Еустратом и его попутчиками. Выяснилось, что
«они, едучи, воровали по дороге: боярина Дмитрея Ивановича Годунова в вотчине крестьян били и грабили, и жены их крестьянские соромотили, и убили в деревне в Заболотье ис пищали крестьянина, у иных у многих крестьян животину, коровы и свиньи, побили и платье грабили».
По этому случаю воеводе предписывалось прибывших на Лозьву
«детей боярских бить батогами, а атаманов и казаков, пущих воров, бить кнутьем. А Еустрата атамана бить кнутом».
В этом примечании к наказу видна особая забота о чести и имуществе Дмитрия Годунова, дяди правителя Московского царства.
Судя по всему, инструкция была исполнена с надлежащим тщанием: Пелымский острог был поставлен, князь Аблегирим устранен, его младший сын Таутий пленен. Г. Ф. Миллер нашел в пелымском архиве сведения о том, что в 1597 г. Таутий и внук Аблегирима по имени Учет содержались в Москве под караулом. На следующий год Учет был, вероятно, крещен под именем Александра. Какие-то потомки Аблегирима, числившиеся князьями пелымскими, жили сначала в Пелыме, потом служили в Верхотурье и были пожалованы в тобольские дворяне (Миллер 1 2005:276).
 Наказ кн. Андрею Елецкому 1593–1594 гг. по постройке Тары был составлен по пелымскому шаблону, со своей детализацией. В нем ставятся сходные задачи: двумя ратями, судовой и конной,
Наказ кн. Андрею Елецкому 1593–1594 гг. по постройке Тары был составлен по пелымскому шаблону, со своей детализацией. В нем ставятся сходные задачи: двумя ратями, судовой и конной,
«идти города ставить вверх по Иртышу, на Тару реку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтоб пашню завести, и Кучюма царя истеснить, и соль устроить».
Высланным вперед из Тобольска детям боярским, казакам и служилым татарам следует убеждать ясашных татар-двоеданцев (плативших дань московскому царю и Кучум-хану) в расположении к ним царя и облегчении ясака при условии их присоединения к московской рати в походе на Кучума и ногаев. На Таре, как и на Пелыме, нужно «острог на чертеж начертить» и «делать город и возить лес всею ратью», а местных татар, как и вогулов на Пелыме, привлекать к строительству, но опасаться и в город не пускать, дозволяя лишь к стенам лес возить.
Тем временем воеводе предписывается «береженье накрепко от Кучюма царя держати», а переговоры начать с уловки, чтоде государь московский «Кучюма царя хочет держать под своею царскою рукою, и сына к нему Облагаира [плененного ранее Абул-Хайра] и людей, вперед пожаловав своим царским жалованьем, отпустит». При этом надлежит «над Кучюмом и над его женами и над детьми промыслить и извоевати их накрепко», а тем временем уговорами отлучить от Кучума его людей,
«чтоб ехали к государю служить; а ссылались бы с ними тобольские служивые татарове. А которые от царя придут, и тех жаловать, и сукна давать, и хлебца невелика давать» (Миллер 1 2005:347–352).
Борис Годунов и думный дьяк Андрей Щелкалов, ведший переписку с воеводами, в восточной стратегии, как в шахматах, вдумчиво расставляли на карте Сибири фигуры воевод и острогов. Их инструкция — не только строгий приказ с персональной ответственностью и точными сроками, но и сценарий с пошаговой концентрацией на ключевых действиях. Применявшаяся в московской военно-административной колонизации «сумка с трюками» — переговоры, подарки, лесть, ниспровержение сильных и патронаж слабых (Pierce 1960:17) — не народное творчество, а пункты инструкции. Благодаря школе Годунова−Щелкалова сибирские воеводы и головы сохраняли дееспособность даже в период Смуты, действуя по старым наказам царя Бориса. Эффект инструкции состоял и в узаконении московского права вершить судьбы туземной знати и рубить остроги на чужих землях.

Н.Н. Каразин. Въезд пленённого Кучумова семейства в Москву. Источник humus
Воеводы и остроги
Инструкция Годунова−Щелкалова выросла из опыта «острожной колонизации» Поля и Поволжья. В 1586 г. были построены Самара, Уфа (в статусе города) и Тюмень. Далее самарская цепь острогов потянулась на юг, перекрывая ногайские переправы (Царицын на Переволоке появился в 1589 г., Саратов на устье Б. Иргиза — 1590 г.), а уфимско-тюменская цепь — на восток, охватывая владения Кучума (строительство Уфы мотивировалось обороной от сибирского хана и прокладыванием пути в Сибирь). Шаг за шагом ордынский пояс был рассечен цепью острогов. После закрепления на линии Уфа–Тюмень–Тобольск, в 1593–1594 гг., московские стратеги делают «царский ход» сразу в четырех направлениях — на Пелым (1593), Березов (1593), Тару (1594), Сургут (1594).
«Острожная колонизация» идет тотально и быстро, напоминая ордынские походы: еще не просохли строения Пелыма, а оттуда уже направляется отряд (в составе рати Елецкого) на Тару; одновременно воевода Траханиотов движется на Березов. Вскоре цепи острогов вытягиваются по северу таежного пояса Зауралья (Березов, Обдорск, Мангазея, Туруханск) и по его югу (Тюмень, Тобольск, Пелым, Верхотурье, Сургут, Нарым, Томск) (см. рис. 12).
В каждом шаге «острожной колонизации» просматривается следующий ход:
«А мочно из того из нового города [Тары] полем и в Пегую орду по ясак посылать, и посылки конные и пешие для войны» (Миллер I 2005:353).
Наказ 1604 г. о строительстве Томска содержит план:
«а до Чат де будет от того города 10 дней; а до киргиского князька до Немчи 7 ден, а людей у него 1000 человек; а до Ород, до князца до Бинея, до ближнего кочевья 10 ден, а до дальнего кочевья 4 недели, а людей у него 10000 человек; а до телеут дальнее кочевье 5 ден; а князек в телеутах Обак, а людей у него 1000 человек; а до умацкого князца до Чити дальнее кочевье 14 дней, а людей у него 300 человек. А как де в Томи город станет, и тех де городков кочевные волости все будут под государевой царскою высокою рукою и ясак с них имати мочно» (РИБ 2 1875:159).
По наблюдениям М. К. Любавского, покорение Сибири
«на первых порах носило характер военной оккупации и выражалось в построении в землях туземцев русских городов, городков и острогов. В этих пунктах поселялись прежде всего казаки, стрельцы, различные иноземцы и другие служилые люди; одновременно с ними или несколько позже селилось духовенство, а затем уже в Западной Сибири пашенные крестьяне и посадские люди» (Любавский 1996:455).
Остроги окружались слободами «веденцев» и других пашенных людей, воля которых учитывалась лишь в той мере, в какой она соответствовала административным наказам. В 1599 г. Борис Годунов тобольскому воеводе Семену Сабурову наказывал:
…пашенных и посадских людей призывать из Перми и с Вятки из Солей на льготу охочих людей от отца сына и от брата и от дяди племянника и от сусед суседов. А льгота им давати, смот ря по тамошнему делу, насколько лет пригож… и на подмогу им давати из государевой казны деньги и хлеб, смотря по тамошнему делу, и угодья им давати на кормление, чем бы им мочно прокормитца… искати государю прибыли, чтоб прибыль учинить (Шунков 1946:22).
Если воля пашенных людей с наказом не совпадала, приходилось прибегать к мольбе, как это выразили в челобитной 1599 г. пелымские вогулы и татары, просившие царя вернуть их от землепашества к ясаку:
Милосердый царь государь, пощади сирот своих, вели свою государеву пашню отставити, и не вели сиротам своим впредь своей государевы пашни пахати, и вели, государь, с нас свой государев ясак соболми имати (РИБ 2 1875:147).
Принудительное переселение пашенных людей1, сопровождавшее строительство городов, ямов (первая русская ямская слобода возникла в Тюмени в 1601 г.) и застав (на Собском, Сымском и других волоках), укрепило колониальный каркас и создало опору для дальнейшего движения на восток. Под защитой Тобольска и других городов в XVII в. сформировался земледельческий пояс по рекам Вагай, Иртыш, Тавда, Тура, Пышма, Тобол. Большая часть слобод в Сибири возникла при острогах, выстроенных по «южной оборонительной линии» и подведомственных Тобольску, а к самому Тобольску в конце XVII в. было приписано более полусотни слобод. Полоса от Верхотурья до Тобольска стала «житницей Сибири», и в 1685 г. были отменены хлебные поставки в Сибирь из Поморья — отныне «земледельческий пояс» обеспечивал провизией не только себя, но и северные остроги.
Слаженность действий воевод в годы правления Годунова сменилась разладом в период Смуты. Вряд ли при Годунове было возможно то, что происходило в междуречье Оби и Енисея в 1610 г.: к остякам рек Сым и Кас повадились ходить за ясаком сборщики из Кетска и Мангазеи. Воеводы обоих острогов знали об этом двоеданстве (кетские сборщики требовали по 12 соболей с человека, а мангазейские — наполовину меньше) и писали в Москву жалобы друг на друга от имени одних и тех же остяков. В ответ от королевича Владислава последовал указ 1611 г., который в лучших традициях тогдашнего польского народовластия предлагал воеводам и остякам самим согласовать, кому куда платить. Вместо согласования последовали новые челобитные, уже кн. Дмитрию Трубецкому и атаману Ивану Заруцкому, которым было явно не до остяков Сыма и Каса. Наряду с русскими воеводами, намерение собирать ясак с остяков междуречья Оби и Енисея изъявили тунгусы. Собранный в 1618 г. пелымско-тобольский отряд под началом Петра Албычева и Черкаса Рукина двинулся на Енисей строить Тунгусский (Енисейский) острог, но по пути основал, без указа из Москвы, Маковский острог на Кети. Бедствовавшие все это время остяки Сыма и Каса были, наконец, приписаны к основанному в 1619 г. Енисейску (Миллер 2 2000:28, 29, 50).

Н.Н.Каразин. Подведение сибирских инородцев под высокую Царскую руку. Целование атамановой сабли как знак покорности и верности. Источник humus
За Енисеем (географически) и за Смутой (хронологически) последовал разгул колонизации, в котором смешались наказы и капризы воевод, своеволие и «воровство» казаков, сопротивление енисейских кыргызов и прибайкальских бурят, у которых были свои виды на власть и свои данники-кыштымы. Впрочем иногда вспоминались и инструкции. Пройдя в 1624 г. разведкой вверх по Енисею, Андрей Дубенский составил чертеж расположения будущего Красноярского острога и для его строительства собрал по сибирским городам отряд в 300 казаков.
Инструкция воеводе Дубенскому напоминает своей обстоятельностью наказы Щелкалова, хотя составляли ее не московские, а тобольские дьяки (от лица воевод кн. Андрея Хованского и Ивана Волынского). В ней прописан маршрут по Оби, Кети и Енисею с остановками в Маковском и Енисейском острогах, распорядок доставки вооружения и провианта, проведения разведки, обустройства острога на Красном Яру и приведения жителей соседних «землиц» под государеву высокую руку (с особенным вниманием к «киргиским людям»).
Кроме того, наказ содержит специальное поручение воеводе следить за тем, чтобы служилые люди
«меж собя не дрались, и грабежу никакого не чинили, и зернью и карты не играли, и государева денежного и хлебного жалования не проигрывали, и никаким воровством не воровали, и насильства и продажи никому не чинили, да в посылках, как их для государева ясаку пошлют, ясашных людей не грабили и не побивали… чтоб однолично в них никакова воровства, и зерни, и блядни, и душегубства не было» (Миллер 2 2000:60, 384–388).
Список запрещений впечатляет обстоятельностью и не оставляет сомнений в том, что тобольские дьяки знали, о чем пишут. Как бы то ни было, 15 октября 1628 г. от Дубенского пришла в Тобольск отписка о том, что острог на Красном Яру построен согласно наказу.
Стихия смуты надолго задержалась в Сибири, охватив не только казаков и служивых, но и воевод, что видно на примере затяжной склоки 1629–1631 гг. между воеводами Мангазеи Григорием Кокоревым и Андреем Палицыным. Их противостояние включало массовые потасовки и даже сражения, разделившие жителей Мангазеи и окрестностей на враждебные лагеря со своими войсками, резиденциями и союзниками. Одним из действующих лиц «мангазейской смуты» был Ерофей Хабаров, вскоре проявивший себя и в даурских походах (Бахрушин 1955:179–185).
Н.И.Никитин подметил, что Енисей стал рубежом между различными по своему характеру этапами «присоединения». Если в Западной Сибири «его направления почти целиком определялись московским правительством, которое тщательно вырабатывало план присоединения той или иной “землицы”, вручая воеводам подробнейшие инструкции, а для выполнения конкретных военно-политических задач часто высылало за Урал войска из Европейской России», то в Восточной Сибири ввиду отдаленности, гигантских размеров территории и низкой плотности населения, «инициатива все полнее переходила в руки местной администрации, получавшей из Москвы предписания поступать “смотря по тамошнему делу”.
Оперативность управления при этом значительно возрастала, однако у представителей государственной власти очень часто терялась согласованность действий. Движение на восток становилось не только стремительным, но и все более стихийным, нередко хаотичным» (Никитин 1987:26). Впрочем, Западную Сибирь в свое время тоже открыли «гулящие люди» и казаки, а московское правительство в лице распорядительного Годунова и его дьяков лишь догоняло ушедшую вперед вольницу; за Енисеем картина повторилась, но в другом темпе.
Гулящие и служилые
Если поступь «острожной» колонизации отмечена городками и документами, то хождения северных «гулящих», «промышленных» и «торговых» людей, равно как и южных вольных казаков (даже если они переходили в разряд служилых), скрывались от властей или самими властями, поскольку письменных инструкций поморам и казакам никто не составлял. По документальной истории «гулящие люди» бродят как тени и предстают чуть ли не досадной помехой действиям чиновников. Так, наказ 1601 г. мангазейским воеводам Василию Мосальскому и Савлуку Пушкину испещрен ссылками на «воровство» торговых людей.
А будет пустозерцы, и вымичи, и зыряне, и пермичи или иных которых городов торговые люди учнут воровати по прежнему и мангазейской и енисейской самояди учнут говорить, чтоб государеву острогу у них в Мангазее впредь не быть, чтоб торговать им в Мангазее и в Енисее всякими заповедными товары с самоядью по прежнему, и князю Василью и Савлуку против воров умышленья сыскивать допряма, а сыскав отсылать их на Березов, а с Березова в Тобольск, и животы их имати на государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии, чтоб неповадно было впредь иным воровати в таком в дальном в новом месте смуту чинить (РИБ 2 1875:824).
Как и другие историки, опиравшиеся на чиновничьи записи, М. К. Любавский был убежден, что
«с наступлением Смутной эпохи распространение русской колонизации в Сибири приостановилось. Москве было не до Сибири; посылки туда новых партий русских людей прекратились. Оставшиеся в Сибири заняты были не столько приискиванием новых ясачных людей московскому государю, сколько борьбой с покоренными уже инородцами, которые, как только началась Смута, повсеместно восстали против русских. Поступательное движение русской колонизации возобновилось только с окончанием Смуты» (Любавский 1996:446).
На самом деле в первое десятилетие XVII в. русские промышленные люди прошли из Мангазеи на Енисей и в 1607 г. основали в устье р. Турухан Новую Мангазею (Туруханск). Все сведения о дальних «землицах», вошедшие позднее в отписки чиновников, были разведаны не ими. Смута остановила не русское движение на восток, а растерявшихся на время воевод. В вольнонародном потоке не всегда различимо соотношение промышленников и казаков. М. К. Любавский подчеркивает роль казаков:
«Обыкновенно новые землицы и новых плательщиков ясака отыскивали московскому государю партии служилых людей, преимущественно казаков, отправлявшихся под предводительством “опытовщиков” на свой страх и риск на лодках и на лыжах за тысячи верст по рекам Восточной Сибири… В какие-нибудь 20 лет казаки прошли таким образом всю Сибирь до Охотского моря. За казаками или вместе с ними ходили с теми же целями промышленные люди, также ставившие острожки и зимовья. По их следам шла уже правительственная колонизация, строились более или менее значительные города и остроги, поселялись на постоянное жительство служилые люди, окончательно приводились в покорность туземцы» (Любавский 1996:447).
С. В. Бахрушин отдает первенство промышленникам:
«Впереди идут промышленные люди… По следам промышленников, часто на свой страх и риск, небольшими партиями в несколько человек, идут служилые люди сибирских городов для сбора ясака с новооткрываемых “немирных иноземцев”» (1955:149).
Пути промышленных людей и казаков на сибирской «украйне» пересеклись и переплелись. Трудно сказать, в ком из них, северянах или южанах, был ярче выражен дух подвижничества и граничащей с авантюризмом предприимчивости. Северяне делали ставку на мирную торговлю, южане — на военную силу. Со временем те и другие подчинились державной воле Москвы, которую по-своему не слишком жаловали. Их встречи на просторах Сибири не всегда завершались дружескими объятиями. Например, в 1628 г. на Оби неподалеку от Нарыма повстречались служилые люди Якова Хрипунова и промышленные люди с пушниной; служилые тут же ограбили промышленных, но те выкупили назад свою пушнину, причем остались довольны умеренной ценой (Миллер 3 2005:44).
На севере Сибири пионерами открытий были торговые и промышленные люди, тогда как на юге (например, при основании Красноярска в 1628 г.) воеводы и казаки нередко обходились собственными силами. По этому поводу Г. Ф. Миллер рассуждал:
«Город Красноярск никогда не достиг[ал] большого развития. Причиной этого была отчасти его удаленность от большой дороги, которая в прежние времена всегда, сухим путем или водою, проходила через Енисейск, отчасти же то, что тамошние дети боярские и служилые люди не принимали в свою среду настоящих торговых людей».
Казаки на свой лад добывали провизию и утоляли голод. Когда в 1629 г. атаман Иван Кольцов вернулся из Тобольска в Красноярск с деньгами для раздачи жалованья, но без хлеба, его убили, а тело бросили в Качу. После этого служилые люди обратились к воеводе Дубенскому с просьбой отпустить их в поход на бурят. Чуя неладное, воевода запер город и посадил нескольких смутьянов в тюрьму, но казаки все же двинулись на бурят и захватили добычу, в том числе женщин (Миллер 2 2000:61, 62).
Этот эпизод иллюстрирует не только старую истину, что ущербность торговли оборачивается разбоем, но и нравы казаков, о которых воевода Яков Тухачевский писал царю:
если казаков не «нять, то они и всех воевод из Сибири вышибут» (Резун, Шиловский 2005:74).
Из официальных донесений может сложиться впечатление, что казаки и служилые люди были озабочены исключительно сбором ясака в казну, а туземцев — под государеву руку. На самом деле они рвались в походы не столько ради государевой прибыли, сколько в азарте дозволенных под видом ясака разбоев и не в последнюю очередь ради добычи пленниц.
«Женский вопрос» был одним из главных мотивов их поисков и походов. Острота его озаботила тобольского архиепископа Киприана, упрекавшего служилых людей в том, что в поездках в Москву они соблазняют женщин и увозят их в Сибирь. В 1630 г. дворянин Григорий Шестаков согласно царскому указу специально «прибрал» в северных городах России 50 женщин для Сибири, главным образом Енисейска, хотя этого недоставало даже для одновременно прибранных им 500 служилых людей. В том же году казаки промышляли женщин на Ангаре (Верхней Тунгуске) и пленили знатных буряток; правда, енисейский воевода Семен Шаховской отнял добычу с намереньем вернуть женщин бурятским князьям для умиротворения (Миллер 2 2000:101; 3 2005:46).
По подсчетам М. К. Любавского, этот промысел достиг демографического выражения; например, к 1641 г. потери женщин у туземцев Тарского уезда были столь значительными, что, судя по учету умерших ясачных плательщиков, только у 5 из 147 остались жены и дети (Любавский 1996:462).
Первыми, еще в XVI в., на Енисей вышли северные «гулящие люди», и первым был освоен обско-енисейский волок с Таза на Турухан (их сходящиеся вершинами притоки не случайно называются Волочанками); лишь в XVII в. были разведаны южные волоки по Ваху–Елогую, Кети, Тыму–Сыму. Северный (тазовско-туруханский) волок был по-своему комфортно обустроен: на нем стояли волоковая баня с буфетом, где продавались кислый квас и сусло, и дом для игры в зернь, в «картяные» и «всякие закладные игры» (Бахрушин 1955:120). Эта атмосфера уюта была особенным настроением северной колонизации: «гулящие люди» шли сюда не на каторгу, а на волю, и выпадавшие на их долю испытания перемежались с состояниями благополучия.
Северные «гулящие люди» первыми увлеклись слухами о богатствах «великой реки» за Енисеем и двинулись на Лену. По преданию, путь туда в начале 1620-х гг. проложил промышленный человек Пантелей Пенда, который с партией в 40 человек прошел по Нижней Тунгуске, ставя зимовья, занимаясь соболиной охотой и отбиваясь от тунгусов. На исходе трехлетнего похода он добрался через Чечуйский волок до средней Лены, а затем вернулся через Ангару в Енисейск. За ним последовали другие: о наплыве на правобережье Енисея промышленных людей можно судить по отписке из Туруханска о том, что в 1626 г. на Нижнюю Тунгуску отправилось 28 каюков с 189 промышленными людьми, а на Подкаменную Тунгуску — 44 каюка с 312 промышленными людьми. От них и узнали о якутах служилые из Енисейска, Мангазеи и Тобольска. Енисейский атаман Иван Галкин в 1631 г. прошел по верхней Лене и Алдану, объясачив несколько якутских родов. Следом, в 1632 г., сотник Петр Бекетов с отрядом в 30 человек добрался до центральной Якутии и срубил Ленский острог, взяв ясак с окрестных якутов (Миллер 3 2005:53–60; Алексеев 1996:10). Однако вскоре поступь колонизации утратила легкость из-за конфликтов колонистов с туземцами и эха смуты в Сибири.
«Колонией Смуты» стала Мангазея, где разгорелась склока между воеводами Кокоревым и Палицыным. По случаю там оказался шляхтич Павел (Бальцер) Хмелевский, который уже в московской Смуте проявил себя экстравагантно, сражаясь против поляков под знаменами Трубецкого и Пожарского. Сосланный в Тобольск, он пробился в чиновники и занялся выгодной торговлей: отправившись в 1622 г. с ревизией в Мангазею, он захватил с собою четыре бочки вина и котлы для винокурения. Государева кабака там не было, и торговля вином принесла Хмелевскому изрядную прибыль (он вывез из командировки добра на сумму 1 140 руб., в том числе 15 сороков соболей). Правда, по возвращении в Тобольск он был «бит кнутом нещадно» и лишен «рухляди», но в 1630 г. Хмелевский вновь едет в Мангазею с государевыми хлебными запасами.
Угодив в пекло мангазейской свары, он принял сторону Палицына, попутно собрав вокруг себя ссыльных поляков и черкас. После зимовки Хмелевский отбыл в Туруханск (Новую Мангазею) в сопровождении черкас и с изрядным запасом вина и меду. На Турухане он тоже ставил «братчины медовые», продавал вино по полушке за скляницу, а мед — по 5 и 6 руб. за бочку (выручка составила 10 сороков соболей). «Молясь и торгуя вином», Хмелевский переписывался с Палицыным, а когда в Мангазее вспыхнула открытая война, послал ему на помощь полсотни казаков (Бахрушин 1955:164 –170).
Пока в Мангазее кипели страсти, на Турухане бражничали черкасы. Именно отсюда в 1633 г. повел отряд на Лену и Алдан черкас Стефан Корытов. Он принялся собирать ясак с якутов, которые уже заплатили его енисейским казакам. Возмущенные якуты убили пятерых посланцев Корытова, а затем встретили войной атамана Ивана Галкина, который в благодушном настроении зимой 1633 г. разослал по якутским наслегам известие о своем возвращении, но «все они вдруг отказались ему повиноваться».
Покладистые еще недавно якуты собрались в большое войско во главе с кангаласскими тойонами и осадили Якутск (при этом тойон Тынья и его сын Откурай преследовали и убивали тех, кто платил ясак русским). Пока Галкин в осажденном Якутске отбивал атаки кангаласцев, Корытов отсиживался на реке Амге, а когда после снятия двухмесячной осады Галкин призвал его к ответу, дело дошло до рукопашной схватки. В «казачьей войне», сопровождавшейся погонями и убийствами, одолел Галкин: Корытов лишился собранного ясака и был выслан через Енисейск в Мангазею. Однако ему на помощь из Мангазеи и Туруханска уже спешил отряд во главе с черкасом Остафьем Коловым, который в свою очередь сшибся на Вилюе с тобольским отрядом сына боярского Воина Шахова (Миллер 3 2005:65–71). Сибирские группировки казаков и служилых людей — мангазейская, енисейская, томская, тобольская — открыто и скрыто, с ведома и без ведома воевод конкурировали за «ясачные угодья».
В 1636 г. томский атаман Дмитрий Копылов с полусотней служилых людей прошел из Томска мимо Енисейска, несмотря на протесты енисейских властей, затем мимо Якутска на Алдан без согласия якутских властей. Уйдя за пределы владений «енисейцев», Копылов поставил в устье реки Маи Бутальское зимовье, откуда в 1639 г. отправил отряд Ивана Москвитина к Тихому океану. Пройдя разведкой по Охотскому взморью, томские казаки получили сведения даже об Амуре. Правда, на обратном пути первопроходцы Пацифики были остановлены на Анге отрядом служилых людей Якутска во главе с сыном боярским Парфеном Ходыревым. У томских казаков были отняты 300 лошадей и 300 коров, а 30 якутов, сопровождавших томский отряд, были зарублены (Миллер 3 2005:77–80; Бахрушин 1955:152).
Сквозной рейд Копылова и Москвитина через всю Восточную Сибирь демонстрирует не только размах хождений сибирских казаков, но и реквизит походов, напоминающих кочевье: облик томской экспедиции наводит на размышление о том, что казаки были готовы в удобном месте не только собрать ясак и перезимовать, но и основательно осесть.
Сибирские воеводства и города порой напоминали враждующие княжества. В 1645 г. енисейские воеводы Василий Пушкин и Кирилл Супонев послали лихого атамана (в ту пору уже сына боярского) Ивана Галкина в Якутск освободить арестованных воеводой Петром Головиным енисейских служилых и промышленных людей. Преодолев в очередной раз путь от Енисейска до Якутска, Галкин отворил тюрьмы и выпустил заключенных.
Очередной «воеводский скандал» закончился в 1648 г. отзывом Головина в Москву (ДАИ 3 1848:33–35, 139). Восточная Сибирь превратилась в «дикий восток», где делили угодья разные партии любителей «ничейных землиц» и ясака:
«меж себя у тех тобольских и у енисейских, и у мангазейских служилых людей для тое своей бездельные корысти бывают бои; друг друга и промышленных людей, которые на той реке Лене соболи промышляют, побивают до смерти, а новым ясачным людям чинят сумнение, тесноту и смуту и от государя их прочь отгоняют» (Бахрушин 1955:152–153).
Если на первых порах туземцы встречали русских с миром, то позднее, насмотревшись на их склоки и растерявшись от обилия сборщиков «государева ясака», сменили милость на гнев.
С Лены колониальная лихорадка распространилась на юго-восток и северо-восток Сибири. На Яне, Индигирке, Колыме, Анадыре пересекались маршруты отрядов, шедших с Лены «кочами и коньми». В 1634 г. енисейский служилый человек Илья Перфильев, а затем сменивший его десятник Елисей Буза освоили путь «кочами» (по морю) от Лены до Оленека и Яны, объясачив янских юкагиров. Одновременно Посник Иванов во главе отряда казаков перешел «коньми» (по суше) с Яны на Индигирку, построив Индигирское зимовье и наложив дань на юкагиров. Примечательно, что людей на кочах юкагиры встретили мирно, а на конных ополчились, тогда как якуты, наоборот, приветили конных казаков (Миллер 3 2005:74, 84; Бахрушин 1955:125; Алексеев 1996:12).
За Индигиркой последовали Алазея и Колыма, где в 1643 г. Михаил Стадухин поставил три укрепленных зимовья. По его наблюдениям, у кочующих за Колымой чукчей
«соболя нет, потому что живут на тундре у моря, а доброй де самой соболь все по Колыме», зато у них много «моржового зуба» (ДАИ 3 1848:100).
Промышленных людей не смутила переориентация с «рухляди» на «зуб», и из устья Колымы они двинулись морем на восток.
В 1646 г. мезенец Исай Игнатьев достиг Чаунской губы, на следующий год партия холмогорца Федота Алексеева вышла в том же направлении, но уперлась во льды, а год спустя, в июне 1648 г., тот же Федот Алексеев повел из устья Колымы шесть кочей, одним из которых правил Семен Дежнев, тобольский казак родом с Русского Севера. После трехмесячного плавания и встреч с «чухчами» и «зубатыми людьми» (эскимосами) кочи достигли Большого Каменного носа (мыса Дежнева), где буря раскидала их.
«Неволею» коч Дежнева унесло далеко к югу, где он, «прошед Анадырское устье», оказался на восточном берегу Чукотки (Бахрушин 1955:153). Однако и это открытие было омрачено ссорой между Дежневым и подошедшим к Анадырю сухим путем Стадухиным:
«встреча соотечественников на далекой Чукотке получилась не теплой — между отрядами едва не произошло кровавое столкновение из-за ясака, и Дежнев поспешил удалиться на судах обратно в море» (Любавский 1996:451, 452).
Одновременно на южном краю восточной экспансии разыгралась драма, главными героями которой стали Василий Поярков и Ерофей Хабаров. Письменный голова Поярков в 1643 г. вышел из Якутска и в 1646 г. вернулся обратно, очертив дугу по Алдану, Зее, Амуру, Охотскому морю, Улье и Мае. Поярков шел на Амур воевать — с пушкой и войском свыше сотни служилых людей. С первых шагов он брал аманатов и ясак, разорял туземные селения и требовал покорности. На лобовую агрессию амурские туземцы (дауры, дючеры, шунгалы) ответили взаимностью, окружив пришельцев враждой. Русские пришли в изобильный край «сидячих хлебных людей», но «питалися всю зиму и весну сосною и кореньями», и померло голодной смертью сорок служилых людей, а иные
«служилые люди, не хотя напрасною смертию помереть, съели многих мертвых иноземцов и служилых людей, которые с голоду примерли, приели человек с пятьдесят», а иных служилых людей из своего отряда Поярков «своими руками прибил до смерти», и «всего он Василей потерял государевых служилых людей человек со сто» (правда, на дознании Поярков уверял, что в походе погибло не 100, а 80 человек) (ДАИ 3 1848:50–60).
 Как бы то ни было, рейд Пояркова ознаменовался не только открытием новых «землиц», но и разладом с туземцами, раздором среди самих служилых людей, распространением их образа «людоедов»; а острог, поставленный на Зее, стал для них моровой западней. Этот поход иллюстрирует стиль «выжженной земли», причем в буквальном смысле — в вину Пояркову его недоброжелатели вменяли приказ выжечь луг, где голодные служилые люди копали коренья. Де-факто Поярков бежал с Амура, уходя морем к охотскому берегу и оставив по себе недобрую память.
Как бы то ни было, рейд Пояркова ознаменовался не только открытием новых «землиц», но и разладом с туземцами, раздором среди самих служилых людей, распространением их образа «людоедов»; а острог, поставленный на Зее, стал для них моровой западней. Этот поход иллюстрирует стиль «выжженной земли», причем в буквальном смысле — в вину Пояркову его недоброжелатели вменяли приказ выжечь луг, где голодные служилые люди копали коренья. Де-факто Поярков бежал с Амура, уходя морем к охотскому берегу и оставив по себе недобрую память.
Впрочем вскоре в Якутске нашлись новые охотники искать удачи на Амуре. Их возглавил Ерофей Хабаров — промышленный человек из Сольвычегодска, поучаствовавший в свое время в мангазейской «войне воевод». Он первым устроил соляную варницу в Усть-Кутском остроге, завел пашню, мельницу, занялся торговлей и извозом. Хабаров сочетал в себе предприимчивость своих земляков Строгановых и удаль своего современника атамана Ивана Галкина, которого С. В. Бахрушин назвал смелым исследователем и завоевателем «новых землиц», типичным русским Пизарро (1955:153). Замысел Хабарова был его частной инициативой и как будто обещал вылиться в основательное освоение «землицы» на Амуре.
Между походами Пояркова и Хабарова произошли события, изменившие отношение якутских властей к туземцам. На воеводство в Якутск вместо отозванного Головина в 1649 г. прибыл Дмитрий Францбеков, которому вскоре пришлось разбираться с убийством «гулящим человеком» Федулом Абакумовым тунгусского князя Ковыри. По разъяснениям Федула, тунгусский князь посетил стан промышленных людей на реке Мае, а затем вернулся в свои юрты и «учал говорить тунгусам своим по-тунгусски».
Тут Федулу «послышалось» (толмача не было), будто князь говорит о сыне, который «из аманатов ушел». Опасаясь расправы, Федул застрелил князя из пищали. На беду Ковыря оказался не только самым влиятельным человеком в округе, но и отцом дюжины сыновей, один из которых сидел в аманатах в Якутске (вероятно, напугавший Федула уход аманата был обычной заменой одного заложника-сына на другого — Юманея на Турченея).
Остальные сыновья убитого князя подняли соплеменников и принялись бить русских. От якутского воеводы они требовали повесить Федула в присутствии тунгусов или «отдать его убить» им самим. Францбеков оказался в ситуации, когда тунгусы, пусть и в настроении мятежа, все же обратились к нему как к верховной власти; вместе с тем ему надлежало сохранить лицо в конфликте, грозящем перерасти в войну. Царская грамота (скорее всего, по подсказке самого воеводы) содержала сдержанное решение:
в присутствии Турченея (аманата, сына убитого Ковыри) Федула следовало «бити на козле кнутом нещадно» и посадить в тюрьму, но не выдавать на растерзание. А Турченею растолковать, что меж тунгусами тоже «неумышленные смертные убойства бывают, и убойцов они из рода в род не выдают»; кроме того, жажда мести тунгусов уже утолена расправой над одиннадцатью русскими.
Примечателен миротворческий тон грамоты, предписывающей говорить с Турченеем «ласкою, а не жесточью», и ясак на Охотском побережье отныне собирать
«ласкою и приветом, с великим радением» (ДАИ 3 1848:175, 176).
Воевода Францбеков поощрял затею Хабарова и даже в частном порядке ссудил его деньгами. Казалось, все идет к тому, что новый поход во главе с промышленником (и при участии многих промышленных людей) изменит характер русского присутствия на Амуре. Однако след Пояркова оказался глубок: появление Хабарова с отрядом казаков и промышленных людей (первоначально в 70 человек) на Амуре в 1649 г. вызвало опустошительный ужас: прослышав о казаках, жители Амура оставляли свои дома и уходили прочь с женами и детьми. Сыграл свою роль и сопровождавший все казачьи походы «вирус смуты»: незадолго до прихода Хабарова проворный казак Ивашко Квашнин ездил по амурским улусам и, собирая ясак, пугал дауров приближающимся русским войском в 500 человек, которые хотят-де даурских людей
«побить и животы пограбить, а жен и детей в полон поимать».
Хабаров прошел Амур от верховьев, где он стоял в городке Албазин (по имени даурского князя Албазы), до низовьев, где казаки срубили Ачанский острог. Его описания впечатляют не ладом с туземцами, а казачьей бравадой:
«улусы громили, все улусы»; «дауров в пень порубили»; «и от нашего бою побежались врознь», «и тут все живут дючеры, и все то место пахотное и скотное, и мы их в пень рубили, а жен их и детей имали и скот»; «и яз Ярофейко тех аманатов пытал и жог, и они одно говорят, что де отсеките наши головы, уже де однако мы к вам на смерть достались».
В одном из городков было взято
«бабья поголовно старых и молодых 243 человека, да мелкого ясырю ребенков 118 человек, да коневья поголовья взяли мы у них дауров больших и малых 237 лошадей, да у них же взяли рогатого скота 113 скотин» (ДАИ 3 1848: 360–364).
В обычае казаков было начинать переговоры с взятия заложников, а захваченного языка сначала опрашивать без пытки, потом с пыткой (например, «жечь огнем»), после чего сопоставлять показания.
Настал день (24 марта 1652 г.), когда разгулу казаков был положен конец — под стены их острога-зимовья в низовьях Амура подступила маньчжурская армия богдыхана («богдойского царя Шамшакана») с пушками и конницей. Казаки выстояли и, по их версии, даже победили, но вскоре покинули острог. Примечательно, что, несмотря на военные потери, их число выросло за счет вольных и служилых казаков с 70 до 348 (из них 212 вернулись с Хабаровым в Якутск, а 136 продолжили грабежи). Среди пополнения оказались и «новоприборные даурские казаки» (ДАИ 3 1848:368, 370).
Трудно сказать, насколько итог экспедиции соответствовал замыслу, но с «лаской и приветом» у Хабарова не сложилось. Составляя на Амуре «земли чертеж», он размышлял:
«Даурская земля будет прибыльнее Лены… и против всей Сибири будет место в том украшено и изобильно» (ДАИ 3 1848:258–261).
Однако не с сохой пришел на Амур Хабаров, а с пушками (хотя Годунов в свое время учил брать и то и другое), и в отчете своем, ничуть не смущаясь, похвалялся жестокостью. Создается впечатление, что обстоятельства вынудили предприимчивого земляка Строгановых предпочесть казачий стиль освоения земель промышленному.
По оценке скупого на похвалы Г. Ф. Миллера, Хабаров —
«человек, принесший столько пользы, заслуживает, чтобы его имя было увековечено» (Миллер 3 2005:85).
С.В.Бахрушин назвал амурский поход «головокружительным успехом частного предприятия Хабарова», сопоставив его с экспедицией Ермака (Бахрушин 1955:155). В каком-то смысле рейд действительно был «головокружительным», но тяжела доля «украйн» на стыке держав: если внутренние колонии оберегают, то к пограничным нередко относятся как к заграничным и грабят как в последний раз.
Вместе с тем именно украйна влечет казака и промышленника своей волей, а удобством амурской украйны было пограничье с Китаем. Воеводы остановились перед лицом империи, зато казаки разглядели в буферной зоне убежище. На Амур потек вольный люд, причем настолько резво, что якутская администрация в 1656 г. поставила на Олекме заставу «для побегу в Дауры служилых и промышленных и всяких людей и пашенных крестьян» (Бахрушин 1955:131), а два года спустя был основан Нерчинский острог.
На далеком Амуре сбылась наконец мечта казаков (не сбывшаяся на Иртыше) о создании за Уралом вольной казачьей сечи. В 1665 г. на месте разрушенного городка Албазы беглые казаки во главе с поляком Никифором Черниговским срубили Албазинский «воровской острог». На Амуре
«возникла свое образная казацкая республика, лишь номинально признававшая власть нерчинских воевод, которая на свой риск распространяла русское господство по Амуру и его притокам».
Укрепив Албазин, «воровские казаки» построили еще несколько острогов на Зее и Селинбе (Бахрушин 1955:155). Причастность к этим событиям ссыльного поляка Черниговского вполне объяснима: с одной стороны, в ходе службы на Чечуйском волоке и устроенной Хабаровым Усть-Кутской солеварне он узнал о путях на Амур, с другой — был настроен на «своезаконие», подобно Хмелевскому, Корытову и другим высланным в Сибирь полякам и черкасам. Его побег с 84 казаками на Амур связан с убийством илимского воеводы Лаврентия Обухова, изнасиловавшего не то жену, не то сестру Черниговского. Колонизация обильна криминалом, и нередко вождями вольных походов выступают иноземцы, охотно нарушающие шерть, пренебрегающие царской и воеводской властью2. 2
Соперничество между разными казачьими и гулящими ватагами было едва ли не главным ускорителем колонизационного рывка. Самые дальние и рискованные походы — Стадухина и Федота Алексеева на Колыме и Чукотке, Хабарова на Амуре — затевались по частной инициативе. Лихорадка захвата «новых землиц» стала массовой, и развернувшаяся гонка (чего стоит только рейд томских казаков к Тихому океану) наращивала темп и азарт движения, в том числе воевод, пытавшихся или вынужденных конкурировать друг с другом и контролировать казачьи захваты.
При этом материальная нажива, обычно (в стиле западной политэкономии) рассматриваемая как ведущий мотив походов, в русском варианте выглядела лишь сопровождением (к тому же ценность ясака определялась не только стоимостью соболя, но и причастностью к власти). Риски и мучения походов стоили того, чтобы обрести собственную «землицу» — пусть на время и под видом государевой службы. Для русской вольницы и полувольницы этот образ жизни стал чем-то вроде кочевания с его приключениями, страданиями, страстями и трофеями.
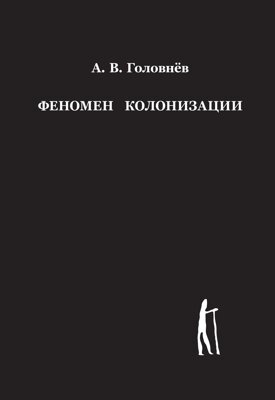 Образ русского казака в фольклоре народов Сибири
Образ русского казака в фольклоре народов Сибири
В фольклоре народов Северо-Востока Сибири для обозначения пришельцев с этнонимом «русский» используется также слово «казак». По частоте использования этих названий весь фольклорный материал по данному региону можно разделить на три группы:
фольклор народов, легко подпавших под «государеву высокую руку» и мало имевших вооруженных столкновений с русскими (энцы, эвенки), в котором встречается только название «русский»;
фольклор народов, покорившихся русским после упорной и продолжительной борьбы (якуты), в котором наряду с «русскими» в преданиях фигурирует и «казак»;
фольклор народов, не покорившихся завоевателям или бывших лишь в частичной зависимости (чукчи, коряки), в котором пришельцы представлены исключительно «казаками».
Как видим, образ казака появляется в фольклоре тех регионов Сибири, населению которых пришлось вести вооруженную борьбу с пришельцами. А так как основную роль в боевых действиях играли именно служилые люди, то образ казака в сознании аборигенов формировался как образ человека, чьим основным занятием было «усмирение» «туземцев». В случае же, когда роль «вооруженной руки» в приведении аборигенов в русское подданство была минимальна, казаки в глазах коренного населения ничем не выделялись из общей массы русских.
Таким образом, многое из того, что касается русских вообще, будет справедливым и для казаков в частности, хотя, несомненно, образ казака нес в себе и многие специфические черты. Иными словами, казак в фольклоре народов Северо-Востока Сибири помимо черт, характерных только для него, несет и комплекс черт, присущих ему в силу того, что он является русским. Этот комплекс черт является общим как для образа казака, так и для образа русского вообще, а посему, чтобы выделить его, придется рассмотреть образ русского в фольклоре.
Вообще русские являются немаловажной частью картины мироздания аборигенов. Об этом говорит тот факт, что вы данном регионе во всех мифах о творении русские присутствуют как важнейшие участвующие лица. Например, в легенде о появлении разных народов, бытовавшей в северных районах Якутии, рассказывается о трех сыновьях бога, младший изкоторых — русский — богом-отцом был назначен главенствовать над другими старшими — якутом и эвеном. Нарушение майората в пользу младшего из братьев вносит ощущение несправедливости данного порядка дел, которое, видимо, и призвана сгладить идея о божественном происхождении власти русских.
Подобный же сюжет имеется в чукотском мифе о творении, где бог-отец предназначает все народы, кроме чукчей, в рабство русскому. Только чукчи должны быть равными русским. Здесь в мифе отражены остатки свободы, сохраненные чукчами в борьбе с завоевателями. Признание чукчами русских равными себе говорит о том, что пришельцы оказались достойными противниками. Чукчи относились ко всем своим соседям крайне высокомерно и ни один народ в чукотском фольклоре, за исключением русских и самих чукчей, не назван собственно людьми.
Вообще русские фигурируют в фольклоре аборигенов Сибири как опасность номер один.
В одном якутском предании из цикла об Эллэе якутский богатырь, убитый соплеменниками, умирая, говорит им: «Скоро вы очень пожалеете о моей смерти, когда придут люди с глубоко сидящими глазами и выдающимися носами…».
Приход русских был событием, определившим всю последующую историю аборигенов Сибири. Осознание этого факта фигурирует в фольклоре в виде деления исторического времени на период до русских и период после их прихода. Соответственно, сам приход русских очень часто служит точкой отчета в ту или иную сторону для временной привязки события.
Прибытие русских осуществляется исключительно по реке на судах. Думается, это не только отражение того факта, что русские для продвижения внутрь континента использовали водные пути, но и сопряжение образа русского с образом реки, который в фольклоре народов Сибири является многозначным символом. Река связывает земной и подземный миры и именно по реке в мир людей приходит все неизвестное, злое, враждебное.
Русских приводит человек из соседнего племени в отместку за обиды. Таким образом, само прибытие русских выглядит как вторжение чужого народа с изначально враждебными целями. Уже одним своим видом пришельцы нагоняют страх и гиперболизированный облик, которым награждают русских местные предания, отчасти объясняется тем впечатлением, которое они произвели на коренных жителей.
Наиболее реалистичную картину рисуют чукотские предания, но и тут русские выглядят устрашающе: «одежда вся железная, усы как у моржей, глаза круглые железные, копья длиной по локтю и ведут себя драчливо — вызывают на бой».
Поражает и устрашает сам вид пришельцев, не похожих ни на один известный народ, их бешеная храбрость и непредсказуемость, а отнюдь не гром выстрелов. Именно эта загадочность русских, неясность их целей и заставляла туземцев целыми родами в страхе бежать от чужаков. Однако, наибольший ужас на местное население наводила жестокость русских, воспринимавшаяся аборигенами как абсолютно немотивированная, а зачастую и бывшая таковой на самом деле.
Отражение такого поведения пришельцев встречается в одном частом мотиве: придя в новую землю, русские разбрасывают бисер, железо, сладости и т.п., а когда туземцы подходят и берут их, дают из засады залп, а оставшихся в живых забирают в плен. Видимо, основой для данного сюжета послужили факты первых контактов местного населения с русскими, когда в случае неудачной торговли служилые и промышленные люди частенько пускали в ход оружие.
В энецких сказках русские («лусэ» фигурируют как народ, движущийся с верховьев Печоры и уничтожающий людей на своем пути: «Найдут народ и… бьют, бьют сразу». Подобный сюжет обычен и для якутского и для чукотского фольклора. С той лишь разницей, что в якутских преданиях истребление русскими местного населения носит вынужденный характер и не является обязательным исходом конфликта. Роды, согласившиеся платить ясак, сразу же попадали под охрану и защищались русскими от агрессивных соседей.
В чукотском же фольклоре истребление чукчей выступает для русских как самоцель, — не случайно конфликт объясняется соображениями мести. Каких-либо рациональных объяснений причины конфликта чукчи найти не смогли. Сбор ясака играет в данном случае второстепенную роль и фигурирует в преданиях в виде сбора меховых шапок с мертвых чукчей.
Вообще образ пришельца в чукотском фольклоре несколько отличается от образа, нарисованного якутскими преданиями. Объяснение здесь только одно: якуты вошли в состав России сравнительно легко, боевые действия не отличались особой ожесточенностью. Имея в течение продолжительного времени тесные контакты с русскими, якуты сумели зафиксировать не только негативные, но и позитивные черты пришельцев, которые суммировались в образе русского.
Образ же казака характеризуется главным образом именно отсутствием любых позитивных черт и даже принципиальной невозможностью иметь таковые. Все зло, которое пришельцы несли аборигенам Сибири, в первую очередь было связано с самими процессом завоевания, а так как первейшей обязанностью служилых людей было именно приведение коренных народов «во всяческую покорность», то в результате все отрицательные черты, присущие русским вообще, персонифицировались в образе казака.
О том, что казак в фольклоре является воплощением собирательного образа врага, говорит, например, тот факт, что иногда в чукотских сказках казаки, с которыми сражаются чукчи, имеют коряцкие имена. По-видимому, первоначально это были предания о войне с коряками, но для усиления образа врага, для придания ему общей выразительности коряки были названы казаками.
Однако, несмотря на то, что казакам зачатую приписывали то, к чему они реально никакого отношения не имели, казак в фольклоре и казак как историческое лицо имели много общего. Не случайно в чукотском языке слово «Касаимел» (казакоподобный) имеет значение скверный, грубый, жестокий. Предания содержат описания истязаний, которым подвергались туземцы: убийство мирных жителей, угон оленей, желание истребить всех аборигенов. Как нам кажется, все это не является преувеличением, продиктованным особенностями жанра, имеющим своей целью изобразить противника в наиболее неприглядном виде, а себя выставить исключительно страдающей стороной.
Те же предания повествуют об аналогичном обращении с русскими, попавшими в плен, что было бы невозможным, имей все вышеописанные действия какую-либо негативную окраску в глазах аборигенов. Скорее всего, подобное отношение к противнику представлялось делом обычным и практиковалось обеими сторонами. Это подтверждается и архивными документами, в частности, описаниями походов служилых лудей против чукчей в первой половине XVIII в.
Описание жестокости казаков, пожалуй, самый сильный мотив в чукотском фольклоре. С ним перекликаются и сюжеты якутских преданий, в одном из которых повествуется о том, как казаки расстреливают из пушек огромную толпу туземцев. Если для образа русского жестокость по отношению к аборигенам — всего лишь одна из черт, то для казака эта черта является доминирующей. Причем жестоки они не только по отношению к аборигенам. Сказания изобилуют описаниями кровавых стычек между самими казаками.
Образ казака в фольклоре неотделим от огнестрельного оружия. Его описание прекрасно отражает то впечатление, которое это оружие произвело на туземцев. В одном из якутских сказаний пушка описывается как «зверь с очень страстной, огненной душой». Однако, и сами по себе казаки — храбрые и сильные воины, которые к тому же бывают хитры и вероломны. Поэтому лучший выход — прекратить войну и покориться. Многие предания заканчиваются призывом к миру.
Наряду с войной образ казака, да и образ русского вообще связан с торговлей. Торговля рассматривается как одно из основных занятий пришельцев. Торгующих якутов называли «нууча», что означает «русский». В одном из редких эвенкийских преданий, содержащих упоминание о русских, говорится о меновой торговле между пришельцами и эвенками. В чукотском мифе о творении основной задачей русскому творец ставит производство чая, табака, сахара, соли, железа и торговлю всем этим с чукчами. Всю важность торговли с пришельцами для аборигенов отражает предание, в котором происхождение многих вооруженных конфликтов объясняется нежеланием русских торговать.
Осмысленная оценка значения прибытия русских и его последствий встречается лишь в якутском фольклоре. Приход русских ознаменовывается установлением у якутов порядка, прекращением междоусобиц. Русский закон почитался более справедливым, чем обычное право. Русские назначают начальников из «лучших людей», которые разбирают бытовые неурядицы и осуществляют справедливую раскладку ясака. Однако, вместе с приходом русских начинается насильственная христианизация и отмирание старых обычаев, с появлением русских связано и распространение новых болезней.
Изменение образа казака происходит в фольклорных памятниках, относящихся к более позднему периоду, когда между коренным и пришлым населением установились довольно мирные отношения. В них мы видим несколько иной образ казака, как человека живущего среди туземцев и имеющего с ними дружеские связи. Но, повторяем, эти предания относятся к периоду, когда русское население уже давно смешалось с местным и в большинстве своем даже перестало считать себя собственно русскими.
Таким образом, в процессе русского завоевания Сибири в ходе неизбежных столкновений у аборигенов вырабатывался и позже отложился в фольклоре собирательный образ русского как врага, который целиком переносится на казаков в силу их деятельности по отправлению служебных обязанностей. Образно говоря, казак в сознании аборигенов был синонимом врага, «человек с ружьем» и уже в соответствии с этой установкой наделялся всеми отрицательными качествами, какие только аборигены могли усмотреть у русских. Нередко и на деле казаки оправдывали свой весьма непривлекательный образ, созданный туземным фольклором.
Цитируется по: Кузьминых В.И. Образ русского казака в фольклоре народов Северо-Восточной Сибири.
Источник Злой Московит
Примечания
1Б. Э. Нольде полагает, что последний принудительный перевод дворцовых крестьян в Сибирь состоялся в 1621 г. и ему на смену пришла стихийная колонизация. Однако принудительное переселение людей в Сибирь сохранилось в виде ссылки (Нольде 2013:294).
2Например, в 1621 г. отряд, посланный из Тобольска за солью к Ямышеву озеру, столкнулся с калмыками, и участвовавшие в походе черкасы тут же перебежали к калмыкам (Миллер 2 2000:109).
![Практики русской колонизации Сибири Print PDF Резюме. В продолжение спора Троцкого и Покровского — анализ А.В.Головнёвым русской колонизации Севера и Сибири, происхождения и действия конкретных практик, использованных колонизаторами, их следствий для аборигенов и страны […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2024/09/wDPfDTWDw78-465x190.jpg)











