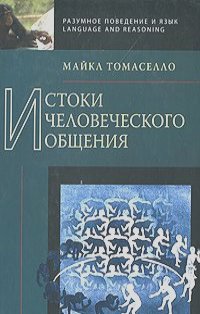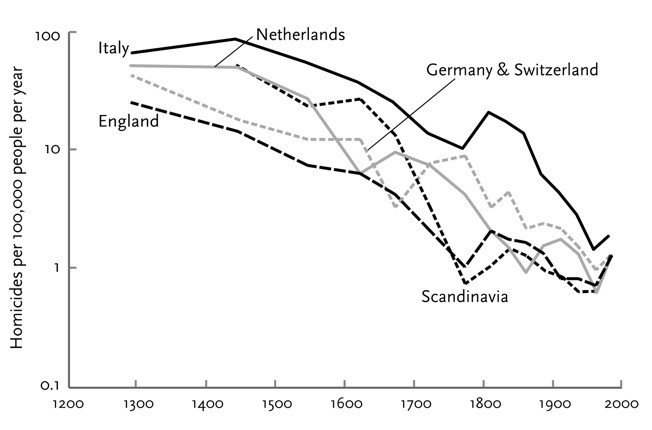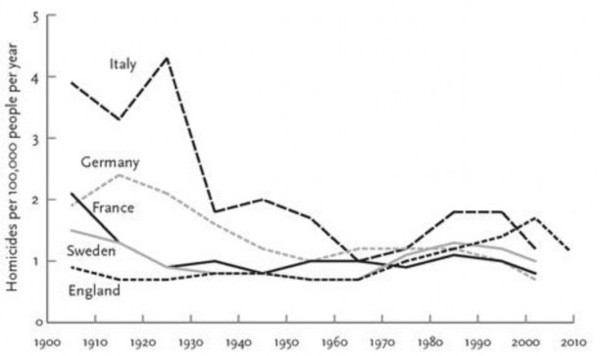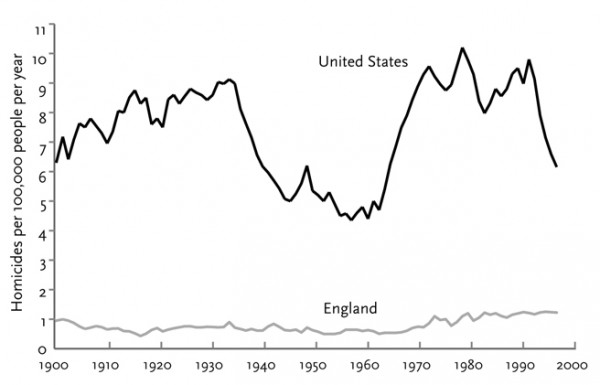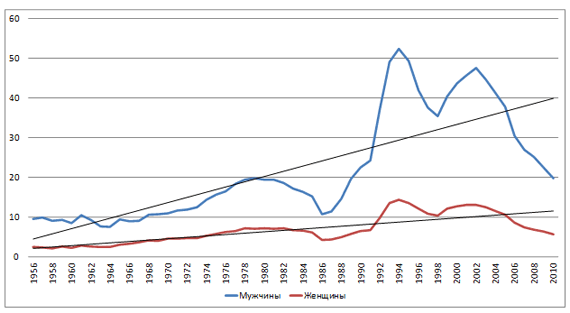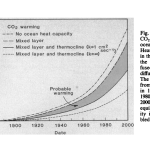в продолжение темы, что общего между средневековыми коммунам коммунами и коммунизмом другими
«Круги равных» и «вертикали власти»
Содержание
- 1 «Круги равных» и «вертикали власти»
- 2 Преимущества социального равенства
- 3 Как сохранить равенство при превышении «числа Данбара»?
- 4 Специфика человека в освоении новых занятий: «техники им.Демосфена»
- 5 «Вертикали власти»: как они меняют людей, как «круги равных» им противостоят?
- 6 Прогресс как экспансия «кругов равенства» и умаление «вертикалей власти»
- 7 Отто-Герхард Эксле по гильдии и коммуны
Огрублённо, человеческий социум структурируется двумя типами отношений. Первый можно назвать «круги равных»: эгалитарные общности, в которых в полной мере проявлена природная склонность людей к кооперации, равенству и взаимной солидарности. Эгоизм здесь создаётся специально (стимулировать специально экономически или провоцировать отчуждённостью людей друг от друга) и, чтобы он проявился, надо приложить усилия, «людская натура» здесь (!) этому сопротивляется. См. «Животное и человеческое, расчёт и равенство».
Соответственно, здесь радикально иные[1] отношения к собственности — ценится не владение вещью, не скопление вещей у себя, а возможность дать часть другим, когда те нуждаются. Люди здесь привязаны к людям, а не к вещам, как в «развитых странах»:
«Дети «диких» народов, пишет Г. Шурц, гораздо раньше, чем дети европейцев, приобщаются к труду, потому что умственное развитие «дикаря», по его мнению, останавливается, а европейский ребенок продолжает и дальше развиваться, так как ему предстоит решать более сложные задачи (116, 90).
Трудно придумать что-либо более далекое от истины. Папуановогвинеец — мастер на все руки: работает на огороде, ловит рыбу, строит хижину, лодку, изготовляет орудия труда, утварь, одежду, украшения, знает обряды, мифы, предания и т. д. Американский этнограф Д. Уайтинг был зачислен в племени квома в разряд детей, да и от них он часто слышал: «Ты не знаешь», «Ты не умеешь» (736, 23). Вероятно, в таком же положении оказался бы и Г. Шурц.
Большое внимание при воспитании детей уделяется нормам социальной жизни. Готовя пишу на костре, дети не забывают о своих друзьях — они ставят для них ещё один глиняный горшок на костер. Однажды к мальчику четырех-пяти лет пришел «в гости» его друг-ровесник, и «хозяин» не угостил его тем, что он сам ел. Бабушка сделала ему выговор (377, 280). Мальчик не поделился с кем-то чем-то вкусным. Ему говорят: так нельзя, что люди о тебе скажут; ты женишься, у тебя будет семья, а тебе никто не поможет на огороде (там же). Скупость в детях нс одобряют, за нее могут даже наказать. Отец говорит сыну:
«Накорми всех, кто ни придет в твой дом… Научись давать пищу сейчас и давай после того, как я умру. Иначе ты будешь голоден, а так тебя везде накормят. Давать пишу — это хорошо».
Подобного рода указания дети слышат на каждом шагу. У сына в руках два банана, рядом с ним — его друг. Отец говорит сыну: «Дай ему один банан». Сын отвечает: «Не дам». Отец: «Дай!» Сын: «Не дам, это мои бананы».
Отец отодрал сына за уши, а потом заметил:
«Если ты будешь скупым, никто не поможет тебе на твоих огородах» (там же, 290).
Всё время говорится о помощи в работе на огороде. Дети хорошо усваивают обычай гостеприимства и подчас делают замечания взрослым, если они уклоняются от выполнения этого обычая. Отец на просьбу пришедшего к нему за чем-то соседа отвечает:
«Не могу дать, у меня нет».
Сын поправляет его:
«Ты забыл? У тебя гость» (там же, 291).
Детей учат: не бери чужого; не говори плохо о друзьях; если тебе что-либо в ком-либо не нравится, промолчи; если кто-либо станет тебя высмеивать, «сделай вид, что ты не слышал» (там же, 288)».
Бутинов Н.А., 2000. Народы Папуа Новой Гвинеи: от племенного строя к независимому государству. СПб.: «Петербургское востоковедение». С.86-87.
 Преимущества социального равенства
Преимущества социального равенства
В малых группах (до 120-150 чел.) «круги равных» формируются автоматически, за счёт «бессознательной социальности» нашего вида, и поддерживаются тем, что используют преимущества социального равенства. Особенно малоосознаваемое сейчас — что всякая личностная разнокачественность людей (их индивидуальный талант или отсутствие всяких талантов) ярче всего проявляется в обществе максимального (т. е. имущественного) равенства, где условия жизни, форма одежды, практики досуга и пр. примерно одинаковы, где сложно создать искуственную разнокачественность, связанную с вещизмом, модой и пр.
Что хорошо видно в книге Н.А. Бутинова (op.cit.) — когда хозяйственная жизнь у всех примерно одинакова, собственность общественная, а имущества во многом общие (во всяком случае, не накопишь богатств — их учат раздавать при первой просьбе), ярче всего проявляется индивидуальный талант. Один умеет рассказывать мифы, складывать песни или вырезать красивые скульптуры, другой нет, у одного хорошо родится ямс и ловится рыба, у другого нет, и с этим ничего не поделаешь.
Так выдвигаются «больше люди», которых слушаются только из-за их авторитета, без какого-либо аппарата принуждения и не в ожидании больших раздач с их стороны (естественно, там, где первобытное общество ещё не сменилось предклассовым). То же знает и всякий служивший в армии — когда все одинаково одеты и живут по одному расписанию, личная разнокачественность видна очень чётко, выделиться легче всего, во-первых, на фоне коллектива таких же, поэтому коллектив — обязательное условие развития индивидуальности, которую в одиночку не создашь; во-вторых, там, где социальная среда однородна, т.е. существенно равенство — политическое, а лучше и социальное, и материальное.
Поскольку таланты распределяются среди людей равномерно, и не связаны специфически с нацией, полом и социальным слоем, всякое неравенство уменьшает общую сумму талантов, которую данное общество может задействовать для собственного прогресса и процветания. Если бедняков рассматривают лишь как «рабочие руки», женщин — как «тело» или «кухарку», негров — спортсменов и музыкантов, евреев — «торговцев-бухгалтеров», в лучшем случае как просто «мозги», то подобное общество неравенства само себя обкрадывает, оставляя нереализованной большую часть своего интеллектуального потенциала.
В условиях социального равенства неиспользованная часть задействуется, бывшие «частичные люди» становятся полноценными личностями. Чем объясним в том числе исключительный прогресс науки, техники и производительности труда в СССР 1930-50-х гг., при не лучших материальных условиях и технической базе. Поэтому главный критерий демократии — отсутствие антропологческого различия между управляющими и управляемыми. Как это было в СССР, ГДР и других странах «советского блока»;
Второй «плюс» вызван взаимопомощью и кооперацией в «кругах равных», с естественно возникающим побуждением наказывать «обманщиков», поддерживать «слабых» и удерживать «сильных» (стремление к равенству). Подобная ситуация возникает, если группа (и взаимодействия в ней) структурированы так, что её члены по умолчанию воспринимают себя как равных, когда мало что в работе и жизни сообщества препятствует этому толкованию (приходящему на ум в первую очередь — т. н. «неосознаваемая социальность» нашего вида). А если препятствия и возникают — как внутренние, так и внешние, созданные обстоятельствами, они преодолеваются разными вариантами кнута и пряника. Тогда индивидуальные способности и ресурсы складываются, а не вычитаются, две головы работают за троих, четверо рук — за семерых.
Сейчас это интенсивно изучается нейробиологами в рамках т.н. «нейроэкономики», а гг.предприниматели уже учатся извлекать свою выгоду из естественной тяги людей к социальному равенству.
Скажем, убрав обычную иерархию в корпорации, исключая неравенство, связанное с разностью статуса (оставив лишь фундаментальное различие между собственниками и работниками), можно сильно повысить производительность, особенно там, где труд может быть интересным и творческим. Такие компании появляются в США, Бразилии и пр.
«Gore Associates — частная, распоряжающаяся многими миллионами долларов компания высоких технологий, базирующаяся в Ньюарке, штат Делавэр. Gore производит водонепроницаемую ткань Gore-Tex, а также нитки для чистки зубов Glide , специальные изоляционные покрытия для компьютерных кабелей и целый ассортимент сложных специальных картриджей, мешочных фильтров и трубок для автомобильной, полупроводниковой, фармацевтической и медицинской промышленности. В Gore нет титулов.
Если вы попросите у любого работника компании визитную карточку, то увидите в ней только его имя и ниже — слово Associate, независимо от того, сколько денег он зарабатывает, или какая ответственность на него возложена, или как долго он работает в компании. У людей нет боссов, у них есть попечители (руководители), которые следят за интересами компании. Нет устава организации, бюджетов и замысловатых стратегических планов. Зарплата устанавливается коллегиально. Штаб-квартира компании представляет собой малозаметное, непритязательное здание из красного кирпича. Административные офисы — это простые, скромно обставленные помещения вдоль узкого коридора.
По углам здания Gore, как правило, располагаются конференц-зоны и свободные пространства, так что никто не может сказать, что у кого-то более престижный офис. Когда я посетил одного из «партнеров» Gore, Боба Хена, на одном из заводов компании в Делавэре, я безуспешно пытался выяснить его настоящую должность. Я подозревал, поскольку мне его рекомендовали, что он был одним из членов высшего руководства компании. Однако его кабинет не был больше, чем у кого-то еще. Его визитка обозначала его как «партнера». Похоже, у него не было секретарши, во всяком случае, я ее не видел.
Одет он был так же, как все. Когда я продолжал упорно настаивать на своем вопросе, он сказал, широко улыбнувшись: «Я тут на всех фронтах».
Короче говоря, Gore — это очень необычная компания с ясной и четко выраженной философией. Это крупная, укрепившаяся компания, которая пытается вести себя как объединение малых начинающих предпринимателей. По всем параметрам эта попытка увенчалась невероятным успехом. Как только бизнес-эксперты начинают составлять список лучших американских компаний-работодателей или как только консультанты начинают вести речь об американских компаниях с лучшим менеджментом, Gore тут же попадает в списки или упоминается. Уровень текучки кадров в компании составляет примерно треть от среднего уровня по отрасли. Она была непрерывно прибыльной в течение тридцати пяти лет. Уровень роста объемов производства и инноваций такой, что могут позавидовать все остальные. Gore удалось создать идеологию малой компании, такую заразительную и прилипчивую, что компания безболезненно пережила свое восхождение до оборотов в миллиарды долларов и тысяч сотрудников. Как им это удалось?Помимо прочего, они придерживались «правила 150″. Уилберт (Билл) Гор, ныне покойный основатель компании, разумеется, не был под более сильным влиянием идей Робина Данбара, чем гуттериты. Так же как и они, он, похоже, столкнулся с этим принципом на основе проб и ошибок.
«Мы снова и снова приходили к выводу, что все шло не так после увеличения численности группы свыше 150 человек, — рассказывал он корреспонденту несколько лет назад, — поэтому штат работников одного завода численностью 150 человек стал целью компании».
В том, что касается отделения предприятия, занятого электроникой, это означало, что ни один из заводов не строился большей площадью, чем 4,5 тыс. кв. м, поскольку почти невозможно разместить более 150 человек в здании такого размера.
«Люди постоянно меня спрашивали, как я осуществляю долгосрочное планирование, — говорит Хен, — на что я отвечал, что это очень просто. Мы устраиваем на объекте 150 парковочных мест, и когда люди начинают парковать машины на газоне, мы понимаем, что пора строить новый завод».
Новый завод необязательно должен строиться где-то далеко. В родном штате Gore, Делавэре, например, компания владеет тремя заводами, которые расположены в зоне прямой видимости друг друга. Фактически у компании пятнадцать заводов в радиусе двадцати километров в Делавэре и Мэриленде. Здания различаются ровно настолько, чтобы придать им некий своеобразный стиль.
«Мы обнаружили, что автостоянка находится далеко от корпусов» — сказал мне Берт Чейз, один из давних «партнеров» компании, — надо идти через всю территорию, а это очень долго. Это все равно, что сесть в машину и проехать целых пять миль. Независимость повышается, когда у вас отдельное здание».
По мере расширения Gore в последние годы компания находилась почти в постоянном процессе разделения и повторного разделения. Другие компании наращивали бы существующий головной завод, или нарастили бы производственную линию, или организовали бы работу в две смены. Gore пытается разбить группы на все меньшие и меньшие отделения.
Когда я, например, посещал Gore, они только что разделили свое предприятие готовой одежды из ткани Gore-Tex на две группы, чтобы удержать число сотрудников ниже 150. В большей степени ориентированные на моду, предприятия по производству ботинок, рюкзаков и туристического снаряжения обретали самостоятельность, оставляя позади головные предприятия, которые выпускают униформу из ткани Gore-Tex для пожарных и военных.
Нетрудно заметить связь между этим видом организационной структуры и необычным, свободным стилем управления в компании Gore. Этот вид взаимосвязи в малых группах, который описывает [Робин] Данбар, представляет собой особый тип влияния окружающих: знать людей достаточно хорошо, чтобы беспокоиться об их мнении. Помните, он сказал, что рота — это основная единица военной организации, поскольку в ней меньше 150 человек и можно обеспечить выполнение приказов и пресечение дисциплинарных нарушений на основе личных связей и прямых человеческих контактов.
То же самое говорил Билл Гросс об общине гуттеритов. Трещины, которые появились в колониях гуттеритов и становились слишком широкими, — результат того, что связи между членами некоторых общин начинают ослабевать. Gore не нужны официальные структуры управления на своих небольших заводах (не нужны общепринятые уровни среднего и высшего руководства), потому что в таких малых группах личные отношения более эффективны.
«Влияние, которое мы испытываем, если неэффективно трудимся на заводе, если не обеспечиваем хороший доход компании, — влияние окружающих — невероятно действенно, — сказал мне Джим Бакли, давнишний «партнер» фирмы, — Это то, что вы получаете, имея небольшие команды, где каждый знает друг друга. Влияние окружающих гораздо сильнее, чем идея строгого босса, во много-много раз сильнее. Люди стремятся выполнить то, что от них ожидают. На более крупных производственных предприятиях традиционного размера вы можете ощутить аналогичное влияние. Но оно будет работать лишь в пределах некоего участка завода.
Преимущество завода компании Gore — в том, что каждый участок процесса конструирования, производства и сбыта той или иной продукции подлежит равноценному коллективному надзору. Я только что вернулся из Lucent Technologies в Нью-Джерси, — рассказывал Бакли, — это завод, где производят комплектующие для сотовых телефонов. Я провел день на их предприятии. У них там 650 человек. В лучшем случае их производственники знают пару человек из конструкторского отдела. И это все. Они не знают никого из отдела сбыта, из отдела рекламы, из научно-исследовательского отдела. Они не знают этих людей и не знают, что происходит у них на этих участках предприятия.
Влияние, о котором я говорю, — это когда люди из отдела сбыта живут в том же мире, что и производственник, и сбытовик, который хочет, чтобы о заказе клиента как следует позаботились, может пойти прямо в цех и сказать там кому-то из хорошо знакомых ему людей, что для него очень важен этот заказ. Вот вам два человека. Один старается хорошо изготовить продукцию, другой старается хорошо ее продать. Они говорят об этом на равных. Это влияние окружающих. В Lucent вы такого не увидите. Они отдалены друг от друга. В производственном отделе у них было 150 человек, они работали бок о бок и хотели в глазах окружающих быть самыми лучшими и самыми передовыми. Но это не выходило за пределы группы. Они никого не знали, помимо своего отдела. Если вы пойдете в кафетерий, там вы увидите небольшие группы людей. Однако это совсем другое».
То, что имеет в виду Бакли, — это преимущества единства, когда все в условиях сложного производства объединены общими связями. В психологии есть понятие, которое, как мне кажется, поможет объяснить то, о чем мы говорим, еще яснее. Это то, что Дэниел Вегнер, психолог из Университета штата Вирджиния, называет «трансактной памятью«. Когда мы говорим о памяти, то говорим не только о понятиях, впечатлениях и фактах, хранящихся в нашем мозгу. Огромный объем того, что мы помним, хранится вне нашего мозга. Большинство из нас намеренно не запоминают нужные номера телефонов.
Дэниэл М. Вегнер, фото с персонального сайта
Но мы запоминаем, где их можно найти — в телефонном справочнике или своей записной книжке. Или мы запоминаем номер 09, чтобы позвонить в справочную службу. Не каждый из нас знает и такие вещи, как столица Парагвая или какой-то другой малоизвестной страны. Зачем об этом думать? Гораздо проще иметь под рукой атлас. Но важнее то, что мы храним информацию в уме других людей. Влюбленные пары поступают так машинально.
Например, несколько лет назад Вегнер провел тест на особенности памяти с 59 парами, большинство из которых встречались не меньше трех месяцев. Половине из этик пар разрешили оставаться вместе, а половину разделили и свели с новыми, совершенно незнакомыми партнерами. Затем Вегнер попросил все пары прочесть 64 предложения, где в каждом было выделено одно слово, наподобие следующего: «Мидори — это японский ликер». Через пять минут, когда пары ознакомились с предложениями, их попросили записать как можно больше из того, что они запомнили. Можете быть уверены, что пары, которые знали друг друга, запомнили значительно больше пунктов, чем те, которые были не знакомы.
Д. Вегнер утверждает, что когда люди хорошо знают друг друга, они создают свою систему запоминания (систему транзактной памяти), основанную на принципе, кто лучше всего запоминает те или иные вещи[2].
«Развитие отношений зачастую понимается как процесс взаимного раскрытия, — пишет он, — При том, что было бы гораздо романтичнее обозначить этот процесс как взаимное личное откровение и принятие, его все-таки можно оценить и как необходимую предпосылку транзактной памяти». Транзактная память — это часть того, что мы называем близостью [понятно, что верное для любимых в той же степени верно и для товарищей]. Фактически Вегнер утверждает, что именно потеря этого типа совместной памяти делает развод таким болезненным.
«Разведенные люди, страдающие от депрессии и жалующиеся па когнитивную дисфункцию, могут на самом деле вести речь о потере своей системы внешней памяти, — пишет он. — Когда-то они могли обсуждать свой опыт, чтобы добиться взаимопонимания… Когда-то они могли рассчитывать на доступ к обширному хранилищу данных своего партнера, и это тоже уходит в небытие… Потеря транзактной памяти — это все равно что потеря части собственного разума».
В семье этот процесс обмена памятью еще более ярко выражен. Большинство из нас запоминают одновременно лишь часть ежедневных подробностей и историй нашей семейной жизни. Но мы подспудно знаем, где мы можем найти ответы на наши вопросы, — будь то супруг, знающий, где лежат ключи, или 13-летний сын, знающий, как обращаться с компьютером, или мама, которая помнит подробности нашего детства.
Возможно, важнее даже то, что мы знаем, кто должен отвечать за хранение вновь появляющейся информации. Вот как возникает экспертиза в рамках одной семьи. Подросток является семейным экспертом по компьютерам не только в силу того, что у него самая большая тяга к электронике или что он чаще всех пользуется компьютером, но еще и потому, что, когда поступает новая информация в отношении семейного компьютера, он автоматически становится ответственным за хранение такой информации.
Опыт ведет к новому опыту. Зачем мучиться, запоминая, как устанавливать программное обеспечение, если ваш сын всегда рядом и может сделать это за вас? Поскольку ментальная энергия ограничена, мы сосредоточиваемся на том, что у нас лучше всего получается. Женщина, как правило, становится «экспертом» в деле воспитания детей, даже в современной семье, где оба супруга заняты карьерой, поскольку ее изначальная забота о детях заставляет ее опираться на нечто большее, чем то, что может хранить в своей памяти об уходе за детьми мужчина. А затем женщина (часто неосознанно) становится еще и главной интеллектуальной опорой ребенка.
«Когда каждый человек принимает на себя признанную группой ответственность за конкретные задания и факты, то более высокая эффективность неизбежна, — утверждает Вегнер. — Каждая область знаний управляется меньшинством, способным к этому, и ответственность за эти области сохраняется во времени, а не эпизодически обусловливается обстоятельствами».
Когда Джим Бакли говорит, что работать в компании Gore — «это совсем другой опыт», он частично имеет в виду, что внутри Gore развита высокоэффективная транзактная память. Например, вот как один из «партнеров» Gore описывает тот вид «знания», которое возникает на маленьком заводе:
«Ты не просто знаешь кого-то. Ты их знаешь досконально — навыки, способности, увлечения. Вот что тебе нравится, вот что ты делаешь, вот что ты хотел бы делать и вот что у тебя получается особенно хорошо. Вот какой ты человек».
Этот «партнер» говорит о психологических предпосылках транзактной памяти: знать кого-то так хорошо, чтобы знать, что эти люди знают, знать их достаточно хорошо, чтобы быть уверенным в их знаниях по той или иной специальности. Это воссоздание на организационном уровне близости и доверия, которые присутствуют в семье.
Да, разумеется, если у вас компания, выпускающая бумажные полотенца или штампующая гайки и болты, вам это может быть неинтересно. Не каждой компании нужен такой уровень отношений. Но для компании высоких технологий, таких как Gore, положение на рынке которой зависит от способности к инновациям и быстрого реагирования на запросы требовательных клиентов, этот вид коллективной памяти чрезвычайно важен. Она делает компанию невероятно эффективной. Это означает, что взаимодействие упрощает циркуляцию новых идей и информации внутри компании, что обеспечивает ей достижение переломного момента — когда идея мгновенно распространяется от одного человека или части группы на всю группу.
Это преимущество соблюдения «правила 150″. Можете сами рассмотреть их систему коллективной памяти и влияния окружающих. Если бы Gore обращалась к каждому сотруднику индивидуально, задача компаний намного бы усложнилась, так же, как задача Ребекки Уэллс была бы намного труднее, если бы читатели приходили на ее выступления не группами по шесть-семь человек, а самостоятельно. И даже если бы Gore попыталась усадить всех в одно большое помещение, это ничего бы не дало. Чтобы стать едиными (распространить уникальную идеологию компании среди всех сотрудников), Gore вынуждена была разделиться на относительно самостоятельные небольшие участки. Вот вам парадокс эпидемии: чтобы создать одно заразительное движение, вам надо сначала создать много мелких активных групп”.
Малькольм Гладуэлл. Переломный момент.
Как сохранить равенство при превышении «числа Данбара»?
«Круги равных» формируются двумя способами. Первый — автоматически, за счёт «бессознательной социальности» нашего вида. За счёт неё всякий раз, когда несколько человек оказываются рядом друг с другом, они по умолчанию воспринимают друг друга как равных, и кооперируются в решении общих проблем (особенно собравших их вместе), если только внешние обстоятельства не разворачивают их к противоположному и не подчёркивают неравенство.
Собственно, этим, человеческая социальность и отличается в первую очередь от шимпанзиной (вместе с поддерживающими эти отличия особенностями строения мозга — существенно больший объём кратковременной рабочей памяти (short-term working memory capacity[3]), многажды большая пластичность мозга, выраженность изменений, «созданных» разным опытом у генетически родственных субъектов). Другое характерное отличие человека — речь — в этом контексте работает «в обе стороны». Во-первых, она поддерживает «интуитивное» взаимопонимание и кооперацию в «кругах равенства», развивающиеся в онтогенезе «поверх» аналогичной «работы» невербальных реакций, обмена жестами и телодвижениями, см. книгу М.Томазелло «Истоки человеческого общения». Во-вторых, если «клей» социальных связей толкает людей к действиям, для них неприемлемым, несовместимым с их принципами и пр., как в знаменитых опытах Милграма, именно речь позволяет их разорвать, отказавшись подчиняться социальному влиянию.
Второй способ — поддерживать равенство сознательно и активно, на основе соответствующей идеологии, с пресечением уклонений от неё на словах и наказанием за не соответствующей ей поступки. Подобное культивирование равенства (в том или ином аспекте) необходимо в больших группах — поселениях, городах и целых социумах, где численность больше, чем «число Данбара». Ведь мы — наследники именно этих обществ, «сверхплотных» по доагрикультурным меркам, а не «малых групп охотников-собирателей»?
В том числе и телесно наследники. Cori (2014) показал, что этот переломный в социальном плане момент повлёк за собой целый каскад телесных изменений, объединённых понятием краниофациальной феминизации, повлекших за собой уменьшение степени полового диморфизма, содержания тестостерона и, соответственно, «биологического» компонента агрессии, одновременно обусловив большие терпимость к повышенной плотности, дружелюбие и развитость просоциального поведения в целом. Это именно те трансформации поведения вовне и нейрофизиологии внутри индивидов, что описаны у лисиц в доместикационном эксперименте Д.К.Беляева лис и участвуют во всех прочих процессах доместикации, см. таблицу. Наш собственный вид телесно — один из примеров оной.
В больших группах контакты между индивидами часты, а обычно и напряжённы, но в отличие от малых групп, подавляющее большинство их не персонализованы, а анонимны. Тот, с кем приходится взаимодействовать, здесь преимущественно всякий, а не некий; соответственно, нужны идеальные правила поведения в этого рода контактах. Они устанавливаются стихийно (см. исследование С.Милграмом поведения стоящих в очереди и ждущих электричку на платформе, «Эксперимент в социальной психологии», главы 1, 3 и 7).
 Буде осознанны, они прописываются в идеологиях, которые поддерживают и обосновывают «круги равенства» или, наоборот, «вертикали власти». И вкладывать их в сознание граждан приходится специально, используя те же речевые инструменты и, символы культуры, выступающие везде и всегда психическими орудиями, что действуют в обе стороны — меняют модель поведения адресата и одновременно интенцию и эмоции предъявителя в значимых социальных ситуациях. А дальше первый меняет себя по реакции второго на его поведения (человек узнаёт «кто он есть», не самоуглублением, а наблюдая реакции «значимых других» на свои действия в определённом спектре ситуаций, см. книгу Ли Росса и Р.Нисбета)
Буде осознанны, они прописываются в идеологиях, которые поддерживают и обосновывают «круги равенства» или, наоборот, «вертикали власти». И вкладывать их в сознание граждан приходится специально, используя те же речевые инструменты и, символы культуры, выступающие везде и всегда психическими орудиями, что действуют в обе стороны — меняют модель поведения адресата и одновременно интенцию и эмоции предъявителя в значимых социальных ситуациях. А дальше первый меняет себя по реакции второго на его поведения (человек узнаёт «кто он есть», не самоуглублением, а наблюдая реакции «значимых других» на свои действия в определённом спектре ситуаций, см. книгу Ли Росса и Р.Нисбета)
Т.е. здесь используется более специфический (и в большей степени «исключительно-человеческий») канал социального влияния по сравнению с «бессознательной социальности», основанной на автоматическом копировании поведения (и настроения) социальных партнёров, «обслуживаемом» работой зеркальных нейронов. Последний у нас общ с высшими приматами, начиная примерно с макак, он превосходно работает в малых группах, в больших же его недостаточно. Там же приходится «вкладывать идеологию» — не всегда осознано, через словесное обоснование, опровержение оппонентов и пр., но часто через эмоции, следующие из участия в определённом ритуале, последнее для традиционного общества даже типичней. См., например, как участие в ритуалах gunnu и gani у западноафриканского народа нупе закрепляет подчинение женщин мужчинам, и одновременно маркирует переход во «взрослый» возрастной ранг, из книги И.В.Пономарёва «Социализация в традиционном обществе», С.53-64.
Дальше на материале книги Отто Герхарда Эксле «Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья» (М.: НЛО, 2007 360 с.) рассказывается, как концептуально обосновывается и ритуально (через присягу и пиршество) «вкладывается» идея равенства и взаимопомощи с просоциальной активностью в конкретном варианте примере «кругов» — средневековых коммунах, в т.ч. чтобы люди его соблюдали несмотря на возникающие различия в достатке и «знатности». Участие в соответствующих ритуалах включает в «круг равных», создаёт права и налагает обязанности по отношению к сочленам, в том числе чтобы сохраняющаяся разность по богатству, умелости, связям и пр. не действовало в ущерб «слабейшим» среди них [4].
Как подробно описывает Эксле ниже, пир и присяга, репрезентируют главную идею коммуны — что люди, объединяющиеся в союз, могут сами своим разумением устанавливать законы своего общежития, не обращаясь к какой-либо «священной традиции» сверху, со стороны и пр. И могут сами определять свои отношения друг с другом — отсюда равенство мужчин и женщин, считавшихся в христианскую эпоху «низшими по природе». Поэтому коммуны были так отвратительны представителям, а тем паче идейным защитникам феодальной иерархии, державшимся за принцип общественного устройства, противоположный «кругам равных» — за «вертикали власти».
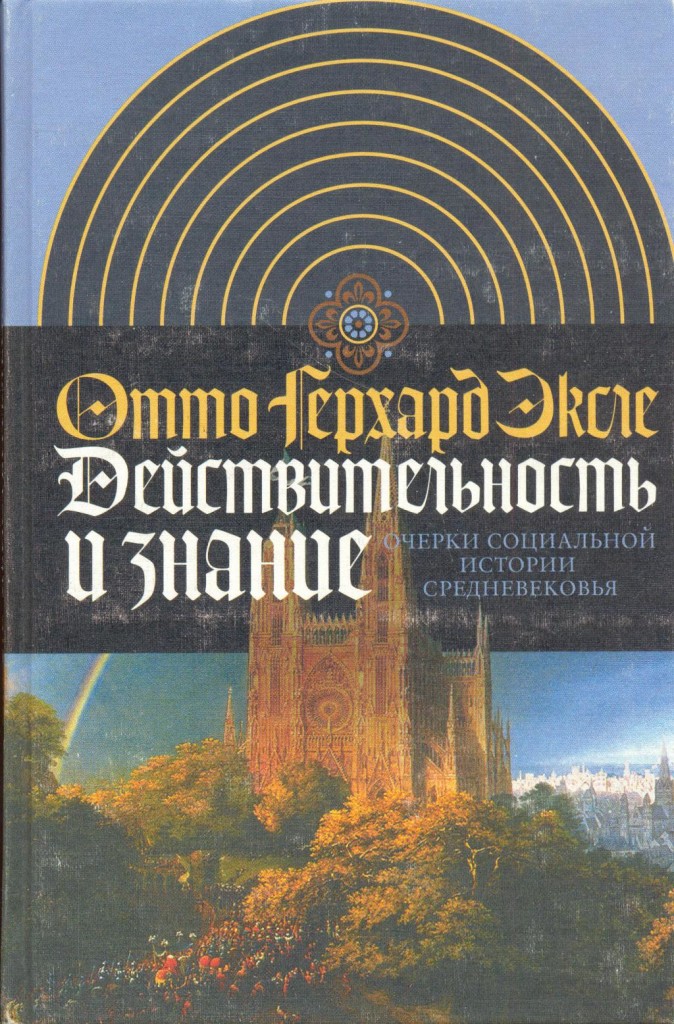 Специфика человека в освоении новых занятий: «техники им.Демосфена»
Специфика человека в освоении новых занятий: «техники им.Демосфена»
Переход от первого способа ко второму в человеческой истории обращает наше внимание на ключевое отличие Homo sapiens от разных видов животных, даже телесно близких, и сравнимых по уровню «индивидуального ума», как антропоиды. В отличие от них человеку разумному (скорей всего и другим видам людей, обладавших звучащей речью и развитой культурой — неандертальцам, денисовцам[5]) присущ принципиально иной ответ на необходимость приспособить своё тело, физиологию, активность нервной системы для решения радикально новых задач[6] — вроде научных занятий, участия в современной войне, работе в современной промышленности.
Как приспосабливаются в таких случаях животные? Часть индивидов лучше решает эти задачи (в исследованиях интеллекта животных, при необходимости орудийной деятельности, в «естественных экспериментах», постоянно ставимых социальной динамикой группы приматов, когда надо проявлять «маккиавеллиевский интеллект», чтобы улучшить собственный социальный статус, или поддержать «друзей» в этом благородном деле») потому что они биологически иные — «ум» работает лучше, «тело» устойчивей откликается на социальную ситуацию и лучше действует в ней и т. д. Чётче всего эта концепция представлена в «Агрессии» К.Лоренца (см. цитату оттуда здесь).
Эта разнокачественность чётко видна в этологических исследованиях, причём она усиливается с ростом сложности задачи, что на интеллект, что на «социальное познание» — как у приматов, так и у врановых, грызунов и пр.
А дальше работает отбор, в пользу генов, вовлечённых в создание этого биологического преимущества, и индивидов, обладающих этими телесными чертами, почему новый навык должен распространиться в популяции. Но лишь теоретически; по большей части таким путём он не может распространиться быстро, на тех реальных промежутках времени, на которых надо овладеть таким навыком (вроде периода, за который синицы (лазоревки и большие) в Англии стали открывать крышки бутылок, японские макаки — мыть батат и пр.). Только на временах эволюционного масштаба, когда обстоятельства места и времени настолько изменятся, что это уже всем будет не нужно.
Плюс организм — штука гомеостатическая, поэтому преимущества «лучших особей» в уме, социальной компетентности, спокойном настроении и пр. не достаются «бесплатно», у этого есть свои минусы. Один из них — на мой взгляд, самый важный — то, что «лучшие» в плане «ума» индивиды (лучше решающие экстраполяционные, проторудийные и пр. задания) в процессе решения и от связанной с ним обстановки испытывают максимальный невроз, беспокойство и пр., почему у них нет стимула эту «лучшесть» развить и углубить.
И наоборот, самые спокойные особи, уверенно действующие в разных социальных ситуациях (а тем более доминанты, в процессе действия «забравшиеся на самый верх) оказываются
а) отнюдь не самыми умными в сравнении со среднеранговыми и
б) у «социальных» видов они более подчинённых подвержены разнообразным рискам и стрессам.
«…интересны результаты выполненного Крилом (Creel, 2001) сравнения опубликованных данных, характеризующих базальные уровни глюкокортикоидов у доминирующих и субдоминантных особей среди кооперативно размножающихся и некооперативных видов пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, исследованных в природе или в условиях, приближенных к естественным. Проведённый им сравнительный анализ 25 публикаций, включая собственные, показал, что у «некооперативно размножающихся» видов – сборной группы, включающей широкий спектр социальных систем, более высокая стрессированность чаще встречается у собординантных особей (Creel, 2001). Важно отметить, что случаи подавления репродуктивной функции стрессом описаны в основном у тех млекопитающих, для которых репродуктивная кооперация не характерна.
Напротив, у кооперативно размножающихся видов с наиболее устойчивыми системами доминирования-подчинения повышенный уровень глюкокортикоидов в большей степени свойствен доминантам, а не подчинённым, как это принято было считать, исходя из результатов в основном лабораторных исследований. В экспериментах по объединению животных в клетках и вольерах, исключавших возможность бегства, само ограниченное пространство выступало в качестве фактора стресса у подвергшихся агрессии индивидов. В естественной обстановке субординантные особи у кооперативно размножающихся видов способны предвидеть развитие социальных конфликтов и уходить от стрессовых ситуаций.
Повышенный уровень стрессированности у доминантов в природе отмечен у самцов альпийского сурка (Marmota marmota; из 4 типов субординантов у одного всё же уровень глюкокортикоидов был выше; Arnold, Dittami, 1997), у самок лемура катта (Lemur catta, Cavigelli, 1999), у самок флоридской кустарниковой сойки (Aphelocoma coerulescens, Schoech et al, 1991), у самок карликовых мангустов (Helogale parvula; Creel et al, 1992), самцов и самок гиеновых собак (Lycaon pictus; Creel et al, 1997). К этому нужно добавить недавнее исследование дикой популяции волка (Canis lupus; Sands, Creel, 2004), в котором повышенным уровнем глюкокортикостероидов обладали как высокоранговые самцы, так и высокоранговые самки. При этом у волков высокий уровень глюкокортикоидов у доминировавших особей, в отличие от карликовых мангустов и гипновых собак не был связан с повышенным уровнем агрессивности. Иерархия отношений у волков поддерживалась исключительно на основе ритуализованных форм поведения.
Повышенная стрессированность доминантов среди кооперативно размножающихся особей интерпретируется Крилом в терминах «цены доминирования»
[единственным исключением из этого правила является знаменитый голый землекоп, где альфа-самка, где фиксируется отрицательная корреляция концентрации глюкортикоидов с социальным статусом особи. Однако здесь взаимодействия с доминанткой приводят к развитию у подчинённых самок стресс-синдрома, полностью и необратимо выключающей их из размножения, в отличие от всех вышеназванных видов. Так что исключение подтверждает правило.].
Поддержание высокого социального ранга энергетически дорого, однако повышенная стрессированность доминантов не отражается на их репродуктивной функции. Исключение же из размножения субординантных особей осуществляется благодаря поддерживаемой доминантом иерархии социальных рангов, то есть в основном за счёт поведенческих ограничений контактов с самками» (См. «О генераторах нового в поведении животных»).
А) и б) вместе ставят под сомнение способность отбора поддерживать качества, обеспечивающие их «лучшесть», ибо всё перечисленное снижает fitness. Да и вообще, у всех социальных видов позвоночных, живущих в сообществах с высокой интенсивностью конкуренции — за территории от тетеревов до волков и макак — при устойчивой социальной организации репродуктивный успех «высших» и низших» особей оказывается примерно равным, чем обеспечивается устойчивое воспроизводство соответствующих им альтернативных стратегий поведения. См. «Альтернативные стратегии и индивидуальность особей», «Мыши, тетерева и половой отбор».
Если кто и показывает сниженный репродуктивный успех, так это «средние» индивиды, из-за недостаточной специализированности поведения «под шаблон» одной из 2-х альтернативных стратегий. Однако именно они «самые умные», наиболее склонные не пугаться новизны, а исследовать её, с использованием манипуляции и игры с предметами новой обстановки и пр. Т.е. «биологическую» гипотезу распространения у людей качеств, нужных для успеха на новых поприщах, биологические же данные ставят под сомнение.
Они же поддерживают альтернативную гипотезу, изложенную нами в «Социальная история Homo sapiens: взгляд зоолога» (или популярно см. «Про селекционистский подход к социальной истории-2»). Человек от животного отличается тем, что как только новая (и проблемная) ситуация обнаружит телесную уязвимость и угрозу не справиться, он придумывает орудие для управления ею (включая психологические орудия[7], в т.ч. речевые знаки и символы культуры). Так, при неопределённости выбора («Буриданов осёл») животные только испытывают стресс, преодоление которого «силами индивидуальной биологии индивида» только утяжеляет проблемную ситуацию в дополнение к собственно выбору. Человек же кидает жребий, и эта культурная практика становится легитимным способом направленно действовать в условиях неопределённости.
Она даёт очевидные преимущества пользующимся ею, но биологически особенно уязвимым особям (в ситуации выбора) по сравнению с неиспользующими, но страдающими меньше от стресса «по биологическим причинам», и это «биологическое» преимущество обнейтраливается при появлении каждой такой практики. Их можно назвать «техниками им. Демосфена», поскольку на новом поприще они дают преимущество мотивированным, но биологически уязвимым для этого дела в сравнении с «биологически нормальными», а потом работают уже для всех. Поэтому «биология» для людей никогда не является проблемой при освоении обществом нового поприща, а вот отсутствие (недостаточное развитие) институтов, вырабатывающих названные выше «техники» для желающих попробовать себя в данной области — таки да.
Что самое замечательное, данное обобщение подтверждается с неожиданной стороны: «биологически уязвимые» не только вынуждены выдумывать «техники им.Демосфена» для успешного действия на желаемом поприще, но затруднительном из-за «биологии», они лучше откликаются на действие этих «техник», когда они найдены, и обходят «биологически полноценных». В том числе и на действие такого рода «техник», «изобретённых» на заре эволюции нашего вида, и определивших его специфику: социальная поддержка, хорошее отношение, обучение с воспитанием на фоне предрасположенности к нему, связанному с т. н. «чрезмерным подражанием» у детей[8].
Действительно, недавно было показано, что люди с проблемами настроения, мотивации, импульсивного поведения, повышенной агрессивности и пр., созданными генетической уязвимостью, являются проблемными лишь в «плохом» социальном окружении. Однако они имеют то преимущество, что в сравнении с контрольной группой лучше «откликаются» на нормальные (а тем более развивающие) социальные условия; в этом случае они демонстрируют меньше проблем по части агрессии, импульсивного поведения, депрессии и их последствий — разного рода зависимостей с криминалом и аномией, чем контрольная группа с «хорошими» генными вариантами. См. пересказ этих работ в «Моём неповторимом геноме» Лоны Франк.
Более подробный анализ показывает, что описанное у Франк есть частный случай общей тенденции — в процессе антропогенеза «биологические» и «социальные» трансформации оказываются противоположно направленными, и первые во всех случаях «пересиливают» вторые, определяя вектор развития — а «биология» приспосабливается к социальным изменениям, как я и предполагал ранее. Удаётся отследить по меньшей мере ещё 4 таких тренда:
1. Биологическая составляющая религиозности очевидна, её можно считать поддерживаемой отбором — везде детность с нерелигиозностью коррелирует отрицательно. И определяйся это умонастроение биологией, «ген религиозности» давно бы захватил человечество. Но нет, как только люди «раздавят гадину»: отделят церковь от государства и школу от церкви, перестанут преследовать за атеизм и дискриминировать за неверие, религиозность немедленно падает. Вплоть до её вымирания в ряде стран Европы, см. «Про селекционистский подход к социальной истории-2».
2. В филогенетической ветви, ведущей к нашему виду, половой диморфизм между самцами и самками падает, тогда как гендерные различия (т. е. между мужчинами и женщинами) растут. Источник.
3. В среднем плейстоцене, как раз при переходе к большим социумам с преимущественно анонимными контактами, «биологический» компонент агрессивности сокращается, что отражается в прогрессе краниофациальной феминизации. А вот в следующий период, в верхнем плейстоцене, частота убийств, связанных видимо с военной активностью, резко растёт, т. е. социальные причины войны cменяют биологические, вроде проявляющихся в межгрупповых конфликтах у шимпанзе. Источник.
Действительно, при переходе от средневековья к современности общая частота убийств во всех странах падает, вопреки росту вооружённости и кровопролитности войн. См. рис. для разных стран отсюда.
Т. е. основная масса убийств во всех эпохи — не военные, а криминальные; падение частоты вторых перекрывает учащение первых, а обусловленность их социальными факторами хорошо видна при сравнении ФРГ, мужчин и женщин (WM, WF) с частотой убийств мужчин и женщин в ГДР (EM, EF) до и после аншлюсса.
4. Глухие взрослые, не знающие языка ни в какой форме, и изъясняющиеся пантомимой, но сумевшие сохранить интеллект, потому что он исходно были выдающимся (обычно их родители слишком бедны, чтобы послать ребёнка в специализированную школу, или её просто нет), вроде знаменитого Ильдефонсо, освоив в зрелом возрасте жестовые языки, оценивают «неязыковое» мышление как мучительное и неадекватное. Однако с речи эта проблема снимается — язык становится «интеллектуальным» (впервые даёт возможность передавать собственный опыт, мысли и чувства общими средствами и по общим правилам, т. е. понятно для всех), а мышление — речевым.
Речь — других или своя, «эгоцентрическая» — становится средством социальной поддержки, которое «тянет индивида вперёд» по пути развития, облегчая решение задач, наиболее сложных для данного «умственного возраста», и переводя ребёнка на следующую ступень развития. См. спор Л.С.Выготского и Пиаже о развитии мышления (интерироризация внешних социальных влияний, в т.ч. речевых или внутренний процесс «созревания») на примере т. н. эгоцентрической речи.
«Вертикали власти»: как они меняют людей, как «круги равных» им противостоят?
Второй тип отношений – вертикали власти, поддерживающие разницу в статусе и подчиняющие низкостатусных господам (или, наоборот, подчёркивающие господство над низшими). Они были подробно исследованы Michael W. Kraus, Dache Keltner и др., см. их работы на krauslab.com. Здесь тоже присутствует кооперация, но специфическая, описанная чеканным определением социального неравенства Аристотеля «Один разумно движет, оставаясь неподвижным; другой разумно движется оставаясь неразумным».
К слову, поэтому всякая классовая борьба (с угнетением) — это борьба невежества с несправедливостью. Поскольку люди искони привержены равенству, чтобы поддерживать его противоположность, надо обделять соответствующую часть общества всем существенным — от пищи, заботы и безопасности до культуры и знаний, т. е. держать в невежестве, и периодически подвергать насилию, заблаговременно пресекающему попытки вырваться. Иначе не будет «разумного движения», ещё и приносящего прибыль «верхним». Но как только «нижние» осознают свою обделённость, они начинают борьбу с «невежеством», а потом скидывают — или смягчают — эксплуатацию, что и составляет суть исторического процесса.
Так или иначе, в «вертикалях власти» вместо двусторонних отношений – солидарности, цементирующей отношения на основе равенства, отношения «верхних», «средних» и «низших» скрепляются отрицательными эмоциями пренебрежения сверху, ненависти – снизу и неприятной зависимости – с обеих сторон. Причём естественность побуждений равенства и солидарности настолько велика, что поддерживать вертикальные отношения удаётся только, разобщая «высших» и «низших» по местам проживания, местам досуга и пр. быту, т.е. более или менее последовательный апартеид, c культивированием предрассудков относительно «чужих» в то и другой группе (т. е. более или менее последовательный социальный расизм). См. «Угнетение бедностью».
Поэтому всякая «вертикаль власти» в идейном плане опирается на священную традицию, «адат», «старину и пошлину», которая потому и священна, что людям нельзя устанавливать в ней законы по своему разумению, а, установив, переделывать их как удобно, можно лишь толковать и следовать толкованиям. И наоборот, все «круги равенства» опираются на идею, что люди могут своим разумением, «своею собственной рукой» устанавливать и менять правила общежития, не обращаясь за дозволением к боженьке или к старшим.
Раз за разом эти идеи оказываются революционными. Как показывает Эксле, они возникли первоначально в сельской местности (в Нормандии) и, видимо, следовали из доклассового равенства, но там были задавлены феодалами. В развивающихся городах – «слабом месте» феодальной формации – они, наоборот, расцвели, став основой и вполне функционального гильдейского устройства, и, в конечном счёте, коммунальной революции, активно противопоставляющей «круг равенства» горожан феодальным иерархиям. Тем самым от городской коммуны открывается прямая дорога к священным принципам 1789 г. и далее к коммунизму. 
Прогресс как экспансия «кругов равенства» и умаление «вертикалей власти»
Всякий достаточно тесный контакт «высших» и «низших» рушит вышеописанные барьеры, ибо люди отказываются от предрассудков, а мысль о равенстве у всех людей одолевает навязанные представления о «естественности» различий. Поэтому враги Великой Французской революции, особенно симпатизанты «мифа о заговоре», начиная с автора — аббата Баррюэля — так ненавидели масонские ложи, хотя они были исключительно консервативны и заняли в целом антиреволюционную позицию, см. книгу Йоханнеса Рогаллы фон Биберстайна. При «старом порядке» это было единственное место, где люди из разных сословий, иногда даже христиане и иноверцы могли общаться просто как люди, а не типажи, исполняющие роли сообразно своему статусу.
Отсюда следует постоянно фиксируемый скачок к равенству мужчин и женщин в революционных движениях простонародья, контрастирующий с разными (но постоянно присутствующими) формами принижения и угнетения вторых при всякого рода «старом порядке». И наоборот, контрреволюция, даже внешне цивилизованная, вроде «Пражской весны», немедленно исключает женщин из числа действующих, принимающих решения etc.
Т.е. «круги равных» возникают и укрепляются сами, весь «труд» приходится на слом отношений господства и угнетения, мешающих их развитию. Последние, понятное дело, приходится устанавливать и поддерживать специально, воздвигая и укрепляя разного рода барьеры, мешающие «низшим» разогнуться. «Круги равенства», правда, приходится защищать не от внешнего разрушения, но от внутреннего перерождения, но это отдельная тема..
Собственно, прогресс в одном из своих измерений как раз и состоит в экспансии отношений по типу «круга равных» во все новые аспекты отношений людей и сферы «общественного организма», с соответствующим умалением, сокращением, облегчением разнообразных «вертикалей власти». При одновременном уменьшении социального неравенства по соответствующим измерениям (богатые-бедные, мужчины-женщины и пр.; когда ходом прогресса «сжимаются» те отношения, которые в данном общественном устройстве не могут быть сжаты без взрыва, происходит революция).
Т.е. прогресс – это в первую очередь увеличение общей суммы отношений, основанных на равенстве (что усиливает психологическое следствие равенства – братство и политическое – демократию), и «снижение барьеров» неравенства в оставшихся отношениях, так что их легче преодолеть «на следующем шаге» развития. Фактически это сокращение «общей суммы неравенства» в обществе (а, значит, разобщённости, межгрупповой ненависти и подозрения, которые неравенство провоцирует и без которых не держится). И в первую очередь – суммы неравенства по системообразующим отношениям, которые в классовом обществе всегда «вертикальны», делят людей на угнетателей и угнетённых, определяют классовое разделение; пока это неравенство не изжито, то хотя бы рост социальной мобильности.
Отто-Герхард Эксле по гильдии и коммуны
«Средневековые гильдии: их самосознание и вклад в формирование социальных структур
«…Клятва и совместная трапеза как конституирующие социальную группу факторы[9] чужды современному человеку. Поэтому он склонен недооценивать их значение в социальной истории предшествующих эпох. Необходимо, следовательно, для начала внести ясность относительно двух основополагающих установок современного мышления, которые в связи с нашим предметом могут привести к ошибочным суждениям. Во-первых, следует указать на существующее сегодня дихотомическое различение сфер профессиональной деятельности и частной жизни, труда и досуга, притом что этот досуг непосредственно связывается со сферой приватного и может включать в себя всю культурную и социальную деятельность индивида, его религиозность, дружеские связи и контакты[10]. Во-вторых, современное мышление придает экономической сфере первостепенное, даже основополагающее значение. Перенесение этих воззрений на эпохи более древние приводит к сомнительным результатам.
Постичь значение средневековых гильдий можно, только если отчетливо осознавать равнозначность таких моментов, как «труд», «религия», «общение», и одновременно признавать полное взаимопроникновение всех этих сфер в повседневной жизни предшествующих эпох[11]. Сказанное означает, что все социальные феномены были одновременно феноменами правовыми, религиозными, культурными, экономическими. В случае гильдий и отдельных элементов из их жизни речь идет, следовательно, о «тотальных социальных феноменах» в том смысле, который вкладывал в это понятие Марсель Мосс («phenomenes sociaux, totaux»)[12].

Студенты университетской аудитории (Германия, XIV век). Видно, что студенты — самых разных возрастов. Первые ряды слушают внимательно, а «камчатка» и в то время была верна себе — болтает и даже спит
В XIX в. Отто Гирке еще прекрасно понимал это, а потому писал, что «гильдии имели одновременно религиозные, общественные, нравственные, частно-правовые и политические цели»: «их сплетение поглощает всего человека и простирается на все сферы его жизни»[13]. Вслед за О. Гирке меткую характеристику гильдиям как «вовлекающим все человеческие отношения, целиком охватывающим людей» дал Эмиль Коорнер[14].
III
В случае гильдий речь идет об одной из форм проявления conjuratio – объединения на основе взаимной клятвы (geschworene Einung). Conjuratio является одним из важнейших элементов в движениях, направленных на создание ассоциаций в Средние века[15]. К conjurationes относятся также и коммуны[16]. Но гильдия существенно древнее, нежели коммуна.
Лежащая в основе conjurationes клятва является клятвой промессивной (нем. promissorischer Eid от лат. promittere – обещать, давать обет), т.е. клятвой-обетом или клятвой-обещанием, которая связывает поклявшихся на будущие времена и предопределяет их деятельность[17]. Клятва является в данном случае «конститутивным, устанавливающим обязательства актом»[18]. Значение промессивной клятвы в социальной истории Средневековья вряд ли можно переоценить. Пьер Мишо-Кантен удачно заметил:
«Клятвенные обязательства образуют один из основных элементов социальной организации в Средние века»[19].
Структура средневекового «общества» в очень большой степени образована за счет плотной сети клятвенно данных обязательств, которые создают и регулируют отношения индивидов между собой[20]. Промессивная клятва может лежать в основе «вертикальных», т.е. иерархических, и «горизонтальных», т.е. паритетных, социальных связей. Вертикальные связи возникают при принесении клятвы одной из сторон, например клятвы следовать за предводителем, клятвы подданства, вассальной клятвы, клятвы министериального служения. Паритетные связи создавала клятва, приносимая обеими сторонами (serment mutuet) в conjurationes[21]. Такая клятва была основой коммунального движения в XI и XII вв.[22], ее считают также основополагающим элементом в движении Божьего мира[23]. К этому же типу, по сути, относится и более поздняя клятва горожанина[24].
Старейшей из известных форм взаимно приносимой промессивной клятвы следует считать клятву членов гильдии. Она встречается уже в гильдиях клириков VI и VII вв.[25]. В гильдии
«конечная причина единения состояла в свободной воле объединившихся»[26].
Это и находило выражение во взаимно данной клятве. Клятва, по определению Макса Вебера, является «наиболее универсальной формой всех договоров о братстве», а значит, всех форм контракта[27]. Посредством принесения клятвы социальная группа утверждает себя как группу относительно своего окружения. Еще более важным является то, что клятва изменяет отдельного человека и все его поведение, обусловливает «изменение [его] общего правого качества, общей позиции и социального облика (Habitus)»[28]. В силу этого всякое conjuratio как объединение на основе взаимно данной клятвы имеет принципиально оппозиционный, даже революционный характер[29].
Данное обстоятельство, в свою очередь, стало причиной длинного ряда запретов гильдий, формулировавшихся в форме запретов гильдейской клятвы на протяжении всей истории Средневековья. В текстах этих запретов слова conjuratio и conspiratio часто употребляются как синонимы – с целью диффамации[30]. Клятва создает здесь один из особенно эффективных типов «искусственного родства», чрезвычайное значение которого в средневековом обществе показал Карл Хаук[31].
Связанные гильдейской клятвой персоны между собой равны – pares[32]. Даже если в раннее и высокое Средневековье общее социально-политическое понятие «равенство» было, пожалуй, неизвестно, нельзя не заметить, что внутри конкретных социальных групп принцип равенства задавал норму.
Важно подчеркнуть, что этот принцип также существовал и в отношении членства женщин в местных гильдиях, что документально подтверждается уже в IX в.[33]. Само членство женщин в средневековых гильдиях было отнюдь не редкостью[34]. В отношении братств было установлено, что отказывать в членстве женщинам было там, скорее, исключением[35]. А что было правилом – показывают списки членов городских братств (fratemitates) XI столетия, содержащие множество женских имен[36].
Гильдия, основанная на взаимно принесенной клятве, была пространством особых, установленных клятвой (geschworene) права и мира[37]. Во всех объединениях по типу conjurationes приносящие клятву берут на себя обязательства соблюдать между собою определенный правопорядок и мир, а также защищать их от посягательств извне[38]. Понятие «мир» (рах), которое подробно разъясняется в гильдейских уставах[39], подразумевает прежде всего отказ от насилия. Поэтому в уставах гильдий такое большое внимание уделяется необходимости избегать конфликтов, своевременно разрешать их и наказывать участников[40]. Поэтому же запрещается носить оружие в гильдейском собрании, приводить туда родственников, чужаков, слуг или детей[41].
 Но в то же время «мир» – это еще и нечто гораздо большее: «мир» здесь всегда социальное понятие, которым обозначается «определенная форма человеческого общежития», «отношение взаимосвязанности в мыслях и на деле»[42]. Это означает, что conjuratio стало истоком особой формы права. Объединение на основе клятвы, как было упомянуто, это контракт между отдельными субъектами права. Результатом такого контракта является «произволение (Willkürung)» как правовое образование особого рода[43]. Понятие «произвол» (Willkür) подразумевает «созданное по договоренности», «установленное», уставное право.
Но в то же время «мир» – это еще и нечто гораздо большее: «мир» здесь всегда социальное понятие, которым обозначается «определенная форма человеческого общежития», «отношение взаимосвязанности в мыслях и на деле»[42]. Это означает, что conjuratio стало истоком особой формы права. Объединение на основе клятвы, как было упомянуто, это контракт между отдельными субъектами права. Результатом такого контракта является «произволение (Willkürung)» как правовое образование особого рода[43]. Понятие «произвол» (Willkür) подразумевает «созданное по договоренности», «установленное», уставное право.
«Произвол» – это «устав с характером закона, т.е. право, действие которого распространяется на определенную территорию или на отдельных лиц» (В. Эбель): таким способом группа объявляет обязательными некоторые принципы своей жизни и сама подчиняется этим требованиям. Речь идет об «особом праве» (Sonderrecht) для членов гильдии, к которому присоединялись все вступающие в нее, принося свою клятву. Таким образом это особое право (willkürliches Recht) могло передаваться из поколения в поколение.
В своем знаменитом описании гильдии купцов города Тиля на Нижнем Рейне, тогда важного центра торговли между Кёльном и Лондоном, монах Альперт Метцский около 1020 г. обратил внимание читателей на то, что ему в поведении этих купцов показалось неслыханным: judicia non secundum legem set secundum voluntatem decemunt, т.е. в делах правовых они придерживаются не «объективного» права, а принимают решения «произвольно», в соответствии с их собственным уставом[44].
Но то, что выражение secundum voluntatem – «по произволению», «по [своей] воле» – в рамках противопоставления «закона» (lex) и voluntas получает второе, диффамирующее значение, – сделано автором намеренно[45]. В целом же появление особого, сознательно созданного людьми права, с которым мы сталкиваемся в гильдиях, было, как известно, важной предпосылкой формирования права современного.
Объединения на основе взаимной клятвы имели также собственные суды[46]. Юрисдикция гильдий, засвидетельствованная уже в каролингское время[47], защищала гильдейский мир (рах) как в отношении попыток нарушить его извне, так и в отношении гражданско-правовых конфликтов между членами гильдии[48].
Защита мира и правопорядка от вмешательства извне имела большое значение. Она означала прежде всего защиту каждого отдельного члена гильдии от нападения третьей стороны, а также известную из уставов английских и датских гильдий обязанность мстить за своих товарищей по гильдии[49]. Формы защиты установленного особым правом мира были разнообразны. Местные гильдии IX в. боролись против разбоя и грабежа, организовывали оборону от внешних врагов, например норманнов, и служили, таким образом, обеспечению «общественного порядка»[50]. Северофранцузские коммуны XI в. в подобных ситуациях брали на себя аналогичные задачи[51].
Высший орган гильдии – совокупность ее членов, т.е. общее собрание гильдии, созванное многократными ударами колокола, служившего одновременно символом conjuratio[52]. Собрание избирало одного или нескольких председателей и членов гильдейского суда[53]. Здесь – как видим, уже очень рано – имеет место правовая фигура делегации[54], которая в данном случае является порождением не научной теории юристов XII-XIII вв., а вполне конкретной повседневной практики. Выборы в гильдии примечательны, во-первых, тем, что пребывание чиновников на посту обычно ограничивалось во времени, что делало возможной их постоянную смену. Во-вторых, выборы в гильдии, если сравнивать их с выборами короля, папы, епископа или аббата, совершенно не носят трансцендентного характера. Согласно предписаниям пунктов устава купеческой гильдии Валансьена, избранный, если он отклонит свое избрание, будет наказан высоким штрафом в 5 шиллингов, а при упорствовании в отказе – исключен из гильдии[55].
Это наиболее суровое из всех возможных наказаний, поскольку оно лишало человека возможности дальнейшей профессиональной деятельности. В строгости санкции отражается характер самого процесса выборов: выборы являются выражением воли членов гильдии, а не высшей Господней воли, как это предполагается при выборах короля или епископа[56]. Выборы в гильдии были не более (но, правда, и не менее) чем соглашением ее членов, на время передавших руководящие полномочия кому-либо из своих рядов.
IV
 Пункты устава гильдии зачитывались вслух во время гильдейской трапезы, поскольку совместные еда и питие регулярно собирали вместе всех членов гильдии – так функционировало, постоянно обновляясь, основанное на взаимно принесенных клятвах сообщество[57]. Конститутивное значение гильдейского пира характеризуется в источниках двояко: с одной стороны, той подробностью, с которой эта тема обсуждается во многих уставах, с другой стороны, настоятельными предупреждениями и запретами со стороны церковного законодательства и церковных авторов начиная с VIII столетия.
Пункты устава гильдии зачитывались вслух во время гильдейской трапезы, поскольку совместные еда и питие регулярно собирали вместе всех членов гильдии – так функционировало, постоянно обновляясь, основанное на взаимно принесенных клятвах сообщество[57]. Конститутивное значение гильдейского пира характеризуется в источниках двояко: с одной стороны, той подробностью, с которой эта тема обсуждается во многих уставах, с другой стороны, настоятельными предупреждениями и запретами со стороны церковного законодательства и церковных авторов начиная с VIII столетия.
В церковных запретах речь шла не только о самом факте еды и возлияний, но и о связанных с едой формах совместного времяпрепровождения: об игре и сценических представлениях, о рассказывании историй (fabulae) и пении простонародных песен (carmina rustica), т.е. о песнях на народном языке, танцах, надевании масок. В специальной литературе эти формы досуга в гильдиях в целом интерпретировались как доказательства их «язычески-культового характера» в раннее Средневековье[58]. Считалось даже, что церковные запреты XII-XIII вв. боролись с реальными следами дохристианских культов[59]. Как мне уже приходилось писать, подобные интерпретации не выдерживают критики с точки зрения методологии[60], поскольку эти церковные запреты следует рассматривать в контексте обоснованной еще Библией негативной установки в отношении совместных еды и возлияний, профанного досуга, игр и развлечений. Эта установка сформировалась в эпоху патристики и с тех пор существовала в виде письменной традиции.
Поэтому запреты свидетельствуют прежде всего об актуальности самой этой традиции на протяжении всего Средневековья и в более позднее время.
Non orationibus, sed ebrietatibus serviunt, – сетовал Алкуин по поводу современных ему гильдий[61].
В этом высказывании – «они не молятся, а служат возлиянию как божеству» – имплицирован упрек в языческих практиках и сомнительной морали, который всплывает в литературе снова и снова: когда Альперт Метцский обвиняет тильских купцов в безнравственности[62], когда Ансельм Кентерберийский или Гиральд Камбрийский предостерегают клириков и монахов от участия в гильдейских пирах, когда Робер де Курсон регламентирует совместные трапезы магистров и студентов в Париже[63], или у Мартина Лютера, который обосновывал свое неприятие братств указанием на их «языческую, даже свинскую сущность» (1519)[64].
Только если признать этот приговор относительно язычества и «свинской сущности» гильдий обусловленным давней традицией предубеждением и не воспринимать его (ошибочно!) как высказывания современников о социальной действительности, можно распознать здесь, во-первых, профанное – культурное – значение гильдий и, во-вторых, связанные с образованием гильдий религиозные моменты. Культурное значение гильдий состояло в том, что они были средой для различных жанровых форм народной «литературы» – песни, сценических представлений и проповеди[65]. Последнее открывает перспективу взгляда на гильдию как на религиозное объединение.
Совместная трапеза теснейшим образом связана с богослужением и раздачей милостыни[66]. Поэтому уставы гильдий и списки членов часто заносились в литургические книги[67]. Особой формой гильдейского пира была поминальная трапеза[68]. Культ мертвых и поминки означали не просто взаимную связь и поддержку между живыми и умершими членами группы, а уходили корнями в идею «реального присутствия» поминаемых персон: называние имени покойного в кругу живых было равнозначно его присутствию[69]. Поэтому в практике поминовения мертвых (memoria) социальная группа снова и снова осознавала себя как группа. Иными словами, memoria важна для длительности существования группы во времени и для ее знания о собственной истории. Этим объясняется часто непонятная современным историкам тщательность[70], которой пункты, регламентирующие формы и обязанности поминовения мертвых, отличаются от остального содержания ранних цеховых грамот XII в. или «устава» Робера де Курсона[71].
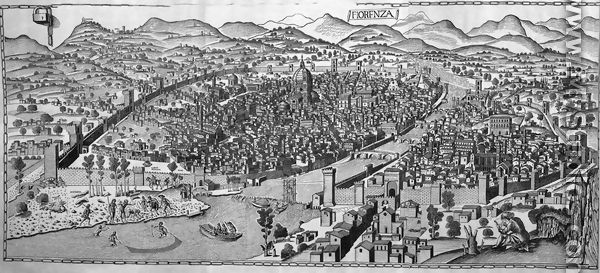 Самое большое значение в истории гильдий имеет тот факт, что уже с каролингского времени к гильдиям, состоявшим преимущественно из мирян, принадлежали также клирики и священники. Гильдии имели собственные религиозные праздники. В этом смысле они являют собой параллель, даже, пожалуй, альтернативу церковному приходу. Можно сказать, что гильдии были общинами, основанными на взаимном согласии[72], и уже в силу этого контрастировали с приходскими общинами как частью церковной территориальной организации. Кроме того, как верно заметил Рольф Церфас, в гильдиях, «независимо от традиционной системы епископских владений (Sprengel) и благодаря преодолению той пассивности, на которую она обрекала мирян», осуществилась, «по меньшей мере отчасти, идея раннехристианской общины»[73] [о которых как «кругах равенства» см. исследование А.С. Волчкова]. Принимать во внимание это соображение – значит понимать многовековую историю гильдий как часть истории религиозного движения мирян в Средние века.
Самое большое значение в истории гильдий имеет тот факт, что уже с каролингского времени к гильдиям, состоявшим преимущественно из мирян, принадлежали также клирики и священники. Гильдии имели собственные религиозные праздники. В этом смысле они являют собой параллель, даже, пожалуй, альтернативу церковному приходу. Можно сказать, что гильдии были общинами, основанными на взаимном согласии[72], и уже в силу этого контрастировали с приходскими общинами как частью церковной территориальной организации. Кроме того, как верно заметил Рольф Церфас, в гильдиях, «независимо от традиционной системы епископских владений (Sprengel) и благодаря преодолению той пассивности, на которую она обрекала мирян», осуществилась, «по меньшей мере отчасти, идея раннехристианской общины»[73] [о которых как «кругах равенства» см. исследование А.С. Волчкова]. Принимать во внимание это соображение – значит понимать многовековую историю гильдий как часть истории религиозного движения мирян в Средние века.
При этом встает, конечно же, вопрос о возможной связи гильдии и ереси. Чтобы ответить на него, следует сначала проверить, в каком объеме еретические группы использовали тип гильдии как форму организации[74], или, по меньшей мере, в каком объеме имели место аналогии по целям и структуре между гильдиями и еретическими группами[75]. Критики ересей и представители официальной Церкви всегда усматривали связь между еретическими conventicula и гильдиями[76].
Духовной нормой гильдий была fratema dilectio – братская любовь, идея христианского братства, вновь и вновь конституируемая совместной трапезой. Идея братства, сообщества любви и мира лежала также и в основе коммуны как объединения, базирующегося на взаимных клятвах, что аргументированно показал в своих исследованиях Хаген Келлер[77]. Уже в гильдиях клириков VI и VII столетий целью объединения провозглашалась caritas,[78] С уверенностью можно сказать, что под этой caritas понималась в первую очередь любовь к ближнему, т.е. к товарищам по гильдии, но также и к тем, кто не принадлежал к ней. Взаимные обязательства членов гильдии были многообразными[79]. Они распространялись на всевозможные ситуации повседневной жизни, прежде всего на случай нужды – пожара и кораблекрушения, разорения, болезни и плена, а также предусматривали помощь в паломничестве [80], и перед судом, и «во всех опасностях» «на родине и за ее пределами» (innen landes og uden landes), как это прописано в уставе фленсбургской гильдии Св. Кнута[81].
Ориентация на идею христианского братства во многих случаях эксплицитно выражена в гильдейских уставах. Так, прямо-таки программной она представляется в уставе купеческой гильдии Валансьена, название которого говорит само за себя – «Caritas»[82]. Здесь всеобъемлющий завет Иисуса любить (да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13:34)) имеет непосредственное отношение к данной, вполне определенной группе людей[83]. Однако не обошлось и без указания на долг милосердия по отношению ко всем остальным, к не-членам группы[84]. Социальная помощь нуждающимся посторонним лицам уже в каролингских гильдиях была настолько привычным делом, что архиепископ Хинкмар Реймсский попытался даже использовать это обстоятельство и ограничить деятельность гильдий в своей церковной провинции исключительно благотворительностью, чтобы превратить их во включенные в приходы благотворительные союзы и таким образом подчинить своей власти[85].
V
Гильдейская клятва и совместная трапеза – наилучший исходный пункт для изучения самовосприятия гильдий и их вклада в формирование социальных структур в Средние века, ведь гильдия представляет собой объединение на основе взаимно принесенной клятвы, сферу особого (корпоративного) права и мира, особую религиозную общину, движимую идеей братства, с причудливым сочетанием альтруизма и группового эгоизма, принципа эгалитарности и эксклюзивности. В совмещении всех этих моментов лежат причины чрезвычайной исторической действенности гильдии на протяжении многих столетий. Структура гильдии как социальной группы всегда была подходящим инструментом для того, чтобы с его помощью отдельный индивид вместе с себе подобными мог удовлетворять социальные, религиозные, экономические и культурные потребности. Поэтому в истории гильдий отражаются существенные фазы и импульсы европейской истории.
 С каролингскими местными гильдиями находятся в родстве английские гильдии X и XI столетий, далее датские гильдии XII и XIII вв.[86], а также гильдии местных жителей, объединения соседей и сельские товарищества (как, например, в Швейцарии) последующих столетий[87]. Религиозное движение мирян с XI в. манифестировалось в распространении преследующих преимущественно религиозные цели братств, имеющих характер гильдий[88]. Специфические социально-исторические и экономические изменения XI и XII столетий привели к возникновению гильдий купцов и ремесленников.
С каролингскими местными гильдиями находятся в родстве английские гильдии X и XI столетий, далее датские гильдии XII и XIII вв.[86], а также гильдии местных жителей, объединения соседей и сельские товарищества (как, например, в Швейцарии) последующих столетий[87]. Религиозное движение мирян с XI в. манифестировалось в распространении преследующих преимущественно религиозные цели братств, имеющих характер гильдий[88]. Специфические социально-исторические и экономические изменения XI и XII столетий привели к возникновению гильдий купцов и ремесленников.
Расцвет юриспруденции, теологии, философии с XII в. нашел выражение в universitates магистров и студентов. Когда в XTV в. экономическое и социальное положение принципиально изменилось, возникли гильдии подмастерьев[89]. Можно кратко упомянуть также и другие, чрезвычайно многочисленные формы объединений типа гильдии в высокое и позднее Средневековье: гильдии нуждающихся, объединявшие бродячих бездомных и их благодетелей (Elendengilden), гильдии паломников, стрелков, «бедняков» (pauperes) и нищих, гильдии прокаженных и калек, гильдии жонглеров (joculatores) и других представителей диффамированных профессий[90], гильдии священников, дьяконов, клириков, различные религиозные братства (например, Каlandsbruderschaften)[91].
Но гильдия – это не только инструмент, при помощи которого люди того времени удовлетворяли свои потребности и приспосабливались к новой исторической ситуации, и не только индикатор исторического процесса, но еще и весьма значительный его фактор. Чтобы пояснить эту мысль, здесь следует сделать несколько замечаний относительно купеческих гильдий и гильдий магистров и школяров.
Путешествующие купцы XI столетия – Альперт Метцский характеризовал их как людей жестких и необузданных[92] – покидали свою родину, они были чужаками в чужой стране. Социологически состояние «быть чужаком» можно довольно точно описать как «вполне позитивные отношения» и «особую форму взаимодействия»: «чужак» – это именно не бродяга, который «сегодня пришел, а завтра ушел», а скорее тот, кто «сегодня пришел и остался назавтра»[93]. Положение чужака, который «пришел и остался», предоставляет индивидам особые шансы, но также скрывает в себе и особые опасности.
Устав купцов гильдии Сент-Омера около 1100 г. как причину образования гильдии указывает, например, угрозу для жизни и товара купцов в пути, а также необходимость отвечать по искам и участвовать в поединках перед чужим судом[94]. До последнего дело доходило особенно часто, прежде всего в связи с долговыми тяжбами, хлопотными и опасными, поскольку в те времена обычным средством доказательства правоты был вооруженный поединок как форма ордалии, божьего суда. Поэтому тильские купцы, например, уже в начале XI в. сумели добиться замены поединка на клятву[95].
В Валансьене устав членов гильдии купцов предписывал им постоянно носить оружие, и если они вместе выехали из города, то везде, где это необходимо, один должен оставаться подле другого, и каждому, кто призовет других на помощь (еп non de caritet), следует помочь[96]. В гильдии Сент-Омера в конце XI в. солидарность ее членов была настолько конкретно регламентирована, что каждый из купцов в любое время мог принять участие в закупках другого купца, при условии, что речь шла о сделке на сумму не меньше пяти шиллингов и не о покупке товара для покрытия собственных жизненных нужд, т.е. по требованию товарищей по гильдии купец обязан был позволить им присоединиться к сделке и получить часть товара на таких же условиях[97].
Здесь проявляется характерная черта гильдий: социальные различия, дифференциация богатства и социального положения между их членами не сглаживались, но гильдии заботились о том, чтобы такие различия не оборачивались против менее благополучных членов. Для этого купеческая гильдия Тиля, например, имела общую кассу, из которой отдельные члены получали ссуду для ведения дел – ad lucra; выручка возвращалась в общую кассу и служила для финансирования совместных трапез[98]. Правда, внутригильдейская солидарность имела и свою оборотную сторону – бесцеремонное отношение к тем, кто членами гильдии не являлся. В Сент-Омере в конце XI в. фактически монопольная позиция осевших там к тому времени купцов настолько усилилась, что они обеспечили себе преимущественное право торговли и могли вытеснить из коммерческой сделки любого не состоявшего в их гильдии купца[99].
 Обретение такой солидарной группой монопольного положения в определенной местности является индикатором подъема торговли в XI в., но в то же время данное обстоятельство и само по себе являлось движущим фактором в этом подъеме. Доминирующая роль купеческих гильдий подтверждается и количественными данными. Это хорошо видно на примере Кёльна, где fraternitas mercatorum glide, судя по списку имен, в середине XII в. насчитывала приблизительно от 200 до 300 членов, часть которых прибыли из весьма отдаленных мест [100].
Обретение такой солидарной группой монопольного положения в определенной местности является индикатором подъема торговли в XI в., но в то же время данное обстоятельство и само по себе являлось движущим фактором в этом подъеме. Доминирующая роль купеческих гильдий подтверждается и количественными данными. Это хорошо видно на примере Кёльна, где fraternitas mercatorum glide, судя по списку имен, в середине XII в. насчитывала приблизительно от 200 до 300 членов, часть которых прибыли из весьма отдаленных мест [100].
Студенты в Болонье, магистры и студенты в Париже также были чужаками. Их положение наглядно описывает известная хартия Фридриха I для Болоньи Authentica «Habita». Этот текст похвально отзывается о школярах, поскольку они ради ученья отправились на чужбину, по своей воле из богатых стали бедными и должны подвергать свою жизнь всем мыслимым опасностям и вооруженным нападениям без основания[101]. Образ (habitus) магистров и студентов XII в. ближе всего, пожалуй, к образу путешествующих по торговым делам и искусных в обращении с оружием купцов. В жизни и тех и других конфликт был весьма существенным элементом.
В крупном чужом городе, каковым был Париж, как известно, дело часто доходило до кровавых столкновений студентов с местными жителями[102]. Или, например, знаменитый конфликт с епископским канцлером по поводу права преподавания теологии и отбора подходящих для учебы студентов. Парижские магистры тогда объединились в клятвенное сообщество (geschworene Einung) с особым правом (Willkürrecht); они связали себя клятвой, избрали уставную комиссию и выработали себе устав. Папа Иннокентий III в 1208-1209 гг. признал их societas вместе с уставной автономией и юрисдикцией[103]. Эпохальное значение этого события особенно можно оценить на фоне истории гильдий, которая, как мы видели, представляет собой еще и историю постоянных запретов Церковью любых объединений на основе клятвы (conjuratio).
Но магистрам вопреки сопротивлению канцлера удалось отстоять автономию своей societas, включая право кооптации большинством голосов[104]. Еще один неожиданный оборот это дело приняло при Папе Гонории III в апреле 1221 г. Тогда парижская societas, будучи объединением на основе клятвы, т.е. conjuratio, была осуждена им на совершенно традиционный манер как conspiratio, т.е. «заговор». Все то, что было одобрено Иннокентием III, для Гонория III стало предметом обвинений: клятва, выговоренное уставом особое право, собственное судопроизводство pro sue voluntatis arbitrio, т.е. согласно самовольно установленному праву. Inceperunt omnia pro arbitrio facere, сетовал он[105]. Как видим, упрек в адрес conjuratio, где все делается «по своей воле», встречается нам в аналогичной ситуации уже не в первый раз.
В Болонье примерно в это же время город хотел добиться окончательного прикрепления к нему universitas магистров и студентов. Для этого их societas в лице своих выборных представителей должна была поклясться городу. Однако такое требование означало для магистров и студентов не что иное, как отказ от полной, обеспеченной некогда принесенными взаимными клятвами автономии. В данном случае Папа Гонорий III, напротив, с самого начала призвал студентов соблюдать свою прежнюю клятву, защищать устав и настаивать на libertas scholastic – основанной на клятве товарищеской автономии[106]. Как видим, свобода здесь является следствием контрактных отношений, libertas scholastica есть свобода автономного, базирующегося на взаимной клятве объединения и свобода отдельного человека, который сплотился с себе подобными в данной группе[107].
 Еще раз напомнить об этих событиях в данной работе уместно не только потому, что изучение гильдий столь часто оставляло без внимания universitates и societates магистров и студентов[108], но и потому, что изучение средневековых университетов, прежде всего в Германии, все еще очень сильно ориентировано на историю духа и институтов[109], порою еще высказывается ошибочное мнение, будто университеты относятся к «церковным сообществам»[110]. Нам известны условия, благодаря которым возникли университеты: рецепция римского права и философии Аристотеля[111], с одной стороны, и новые сферы деятельности людей, чье мышление сформировалось в процессе обращения к этим текстам[112] , – с другой. Но нельзя забывать и о том, какую историческую роль сыграло во всем этом объединение на основе клятвы (conjuratio) как форма организации. Без conjuratio не было бы университетов. Высшая школа имелась во многих культурах, но университеты являются все же специфически европейским феноменом.
Еще раз напомнить об этих событиях в данной работе уместно не только потому, что изучение гильдий столь часто оставляло без внимания universitates и societates магистров и студентов[108], но и потому, что изучение средневековых университетов, прежде всего в Германии, все еще очень сильно ориентировано на историю духа и институтов[109], порою еще высказывается ошибочное мнение, будто университеты относятся к «церковным сообществам»[110]. Нам известны условия, благодаря которым возникли университеты: рецепция римского права и философии Аристотеля[111], с одной стороны, и новые сферы деятельности людей, чье мышление сформировалось в процессе обращения к этим текстам[112] , – с другой. Но нельзя забывать и о том, какую историческую роль сыграло во всем этом объединение на основе клятвы (conjuratio) как форма организации. Без conjuratio не было бы университетов. Высшая школа имелась во многих культурах, но университеты являются все же специфически европейским феноменом.
VI
Universitates магистров и студентов, таким образом, настоятельно напоминают нам о том, что историческое воздействие средневековых гильдий сохраняется до сего дня. Можно указать также на значение распространившихся в Новое время гильдий и братств[113] или на особенное значение цехов и гильдий подмастерьев для идеи ассоциации, свободы союзов и собраний, для поднятой рабочим движением проблемы социальной защиты, а также для возникновения страховых союзов, страхования на случай болезни, товариществ производителей или потребителей[114]. Жизненная реальность в своей временной протяженности и та социальная действительность, которая формируется на основе континуитета идей и социально-политических категорий, тесно связаны здесь и часто с трудом поддаются, если вообще поддаются, разграничению. В течение столетий гильдия была формой общественной организации «для многих»; ее социальные, правовые, религиозные нормы существенно повлияли на повседневную жизнь. Результатом этого стал вклад гильдий в формирование социальных структур вплоть до настоящего времени.
В контексте современных исторических исследований и современного образа истории это утверждение все еще нуждается в доказательствах. Стоит задаться вопросом – почему?
Историк Нового времени Вольфганг Шидер так высказался о понятии «братство»:
«Современное понятие “братство” употребляется <…> исключительно как понятие из области политических, социальных или религиозных убеждений, которое не фиксируется на уровне институтов или права. Оно даже содержит в себе вполне выраженную направленность против всякого рода господства или права. Это обстоятельство является результатом современного развития».
Тогда как старая история понятия, напротив, «характеризуется институциональным выражением всякого братского идейного сообщества» [115].
 Понятие братства, полагает В. Шидер, возникло как понятие убежденческое, но сначала как таковое оно в течение многих столетий не могло развиваться, а в большей степени «оставалось институциональным в силу самого своего возникновения». Для «средневековой идеи братства» особенно характерно, что «как духовные, так и светские братские объединения всех родов имели тенденцию к тому, чтобы оформиться институционально»; ориентированное на идею братства сознание в Средние века было, таким образом, «расчленено сословно» и не вышло за пределы «институциональной фиксации».
Понятие братства, полагает В. Шидер, возникло как понятие убежденческое, но сначала как таковое оно в течение многих столетий не могло развиваться, а в большей степени «оставалось институциональным в силу самого своего возникновения». Для «средневековой идеи братства» особенно характерно, что «как духовные, так и светские братские объединения всех родов имели тенденцию к тому, чтобы оформиться институционально»; ориентированное на идею братства сознание в Средние века было, таким образом, «расчленено сословно» и не вышло за пределы «институциональной фиксации».
В этом суждении В. Шидера остаются без внимания далекоидущие социально-исторические последствия формирования социальных структур, основывающихся на понятии братства[116]. Он не замечает также, что осуществление идеи fraternitas в конкретных группах, названное им «сословной фиксацией», на протяжении столетий было предпосылкой для распространения самой идеи братства как современного мировоззренческого понятия. Наконец, следует напомнить о том, что бывшие носителями идеи братства средневековые conjurationes уже в своем ядре имели ту «направленность против всякого рода господства», связь которой с идеей братства В. Шидер считает «результатом современного развития».
Тему объединений обсуждает, далее, и Томас Ниппердай в своей работе «Союз как социальная структура в Германии в конце XVIII – начале XIX столетия» (1972) [117]. Т. Ниппердай рассматривает мотивы образования объединений с XVIII в., а также проявляющиеся в них потребности и тенденции как нечто «явно новое», что не нашло воплощения «в организованном по господско-корпоративному принципу старом мире». В «старом мире», полагает он, на фоне которого уже в XVIII в. имеет место новый процесс образования ассоциаций, «принцип общины и ассоциации» в смысле свободной инициативы членов «не играл или едва ли играл какую-либо роль»: поскольку отдельный человек «жил в кругу, структурированном домом, корпорацией, церковной общиной, возможно, еще соседским окружением», и в этом мире воззрения и поведение людей определялись «нравами и длительно практикуемым обычаем», а не рефлексией.
Как видим, Т. Ниппердай рассматривает процесс образования ассоциаций как процесс освобождения от традиций, как «процесс индивидуализации» и констатирует: «С точки зрения социальной истории и истории духа предпосылкой и дополнением образования союза является новый, основанный на разуме и автономии индивидуализм. <…> Индивидуализм, таким образом, является предпосылкой ассоциации»[118]. С этим высказыванием можно согласиться, добавив все же вопрос о том, неужели эта связь «ассоциаций» и «индивидуализма» действительна только для современной эпохи, т.е. для периода начиная с конца XVIII столетия?
На этот вопрос можно было бы ответить положительно, если следовать опубликованному вскоре после работы Т. Ниппердая исследованию социолога Ганса Байера «Социология средневекового процесса индивидуализации»[119]. В этом исследовании отстаивается тезис о возрастающей индивидуализации человека на протяжении Средневековья, понимаемой как «редукция товарищеского элемента архаической культуры общности»[120]. Индивидуализация, следовательно, трактуется им как «процесс эмансипации» «архаического» мира средневековых «товариществ», противопоставленный «архаическому состоянию социальной связанности»[121]. Сами товарищества рассматриваются как выражение «статического, ориентированного на традицию общества», как несущие в себе «консервативный дух постоянства», как подверженные влиянию «неизменности и абсолютной действенности установленного Богом сословного порядка», что делает их прямо-таки символом «закосневшего средневекового мира»[122]. Словом, кратко все это означает: «сословный порядок (ordo) средневековой культуры сообществ <…> стоит <…> на пути всякой социальной эмансипации»[123].
Однако о средневековой «культуре сообщества» есть и совсем иные высказывания. Медиевист Михаэль Зайдльмайер однажды констатировал, что «специфически средневековое» в Средневековье можно усмотреть «в его характере живого “организма”»[124].
«Это значит, что все отдельные члены общества органично, каждый на своем месте, включены в одно большое упорядоченное целое, они соседствуют друг с другом отнюдь не бессвязно, не как чисто механическая сумма индивидов».

Лекцию с кафедры в Болонском университете читает Хенрикус-де-Алеман /Генрих Алеманский /Henricus de Alemania. Около 1360-1390. Миниатюра работы итальянца Лаврентия Вонтолины из «Liber ethicorum des Henricus de Alemannia». Государственные музеи Берлина / Henricus de Alemania Lecturing his Students, c. 1350. Laurentius de Voltolina. From «Liber ethicorum des Henricus de Alemania». Date: second half of 14th century. Parchment. 18×22 cm. Kupferstichkabinett Berlin. Min. 1233. Inscriptions Signature bottom right: Laurentius a Voltolina pinxit. Notesminiature, school of Bologna
Соответственно вся жизнь в обществе организовывалась «корпоративной властью, властью сообществ», которые осуществляли свое господство «в силу авторитета нравственности и происхождения», т.е. «в силу священной неоспоримой традиции», однако это, добавляет М. Зайдльмайер, «не приводило к насилию над индивидом, к вынужденному униформированию и нивелированию».
Оба воззрения на средневековую «культуру сообщества» – как на «закосневшую в традиции», как на угнетающий индивида сословный порядок и как на ограничивающее индивида «органическое целое» – находятся, как нетрудно понять, только в кажущемся противоречии. В действительности они дополняют друг друга, можно сказать, даже обусловливают, поскольку исходят из одной и той же основополагающей предпосылки, а именно из убежденности, что в любом случае отношения между индивидом и обществом или между индивидом и сообществом в Средние века в принципе были иными, нежели в современную эпоху. И что в Средние века человек жил в состоянии «социальной связанности», был связан «властью сообщества» и его неоспоримыми традициями[125].
Различия в оценках обусловлены только вопросом о том, должна ли эта «связанность» индивида в средневековом обществе в противоположность «вынужденному униформированию и нивелированию», обрыву корней, одиночеству и обезличению индивида в последующие столетия стать предметом восхищения или же предметом осуждения – как полная противоположность «эмансипации» индивида в современную эпоху. Точно так же нетрудно понять, что при таком противопоставлении речь, в конце концов, больше не идет о познании Средневековья. Средневековье здесь является, собственно говоря, лишь объектом демонстрации, на примере которого обсуждается один из основных вопросов Современности, а именно отношение индивида и общества.
Споры вокруг этой проблемы уходят корнями в эпоху становления самой Современности в конце XVIII – начале XIX в., в противопоставление «просветительских» и «романтических» категорий социально-политической рефлексии, которое здесь также имеет место. Центральным пунктом «романтического» мышления была критика социальной философии Просвещения и ее главной темы – правовой фигуры договора. «Романтическая» критика схемы договора ориентировалась на полярную противоположность «индивида» и «общества» или «сообщества»[126]. В Германии эта критика еще более обострилась, когда приблизительно в конце XIX столетия понятия «общество» и «сообщество» окончательно стали противоположными: понятию определяемого контрактными отношениями «общества» было противопоставлено ценностное понятие «органичного», целостного «сообщества»[127]. На фоне противопоставления этих понятий отныне стало возможным высказываться о так называемой средневековой «культуре сообщества» с открытой неприязнью или со скрытым восхищением.
Задачей историков является распознавать такие как бы само собою возникающие схемы и категории восприятия исторических структур, анализировать их и, по меньшей мере, противостоять их неосознаваемому воздействию. Этого можно добиться только при условии вовлечения самих этих мыслительных схем в сферу познания историка.
Средневековые гильдии были здесь охарактеризованы как conjurationes, т.е. как объединения на основе взаимной клятвы и с особым правом (gewillkürte Einung), возникшие благодаря свободным действиям субъектов права. Гильдии – это контрактные отношения[128]. Поэтому феномен гильдии не поддается рассмотрению ни с точки зрения «просветительской», ни «романтической» схем и одновременно вообще опровергает эти схемы[129].
К этому следует добавить, что возникшая в Средние века правовая и социальная структура conjuratio вместе с гильдией как своей старейшей формой является специфической для истории европейского Запада. Профессиональные союзы, объединения купцов, ремесленников и др. имели место, конечно, и в древних Греции, Риме, Византии, в Китае, в исламских культурах. Но ни в одной другой культуре не было объединений на основе клятвы в нашем смысле, не было гильдий[130]. Макс Вебер поставил свой ставший знаменитым вопрос, почему
«именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались <…> в направлении, получившем универсальное значение и действенность»[131].
Иначе говоря, вопрос о том, почему только культура европейского Средневековья в Новое время стала мировой культурой, почему «на европейской почве, и только здесь, осуществились прорывы, образовались формы, воздействие которых в конце концов распространилось по всей земле»[132]. Свой ответ на него может дать и тот, кто занимается историей средневековых гильдий.
1979
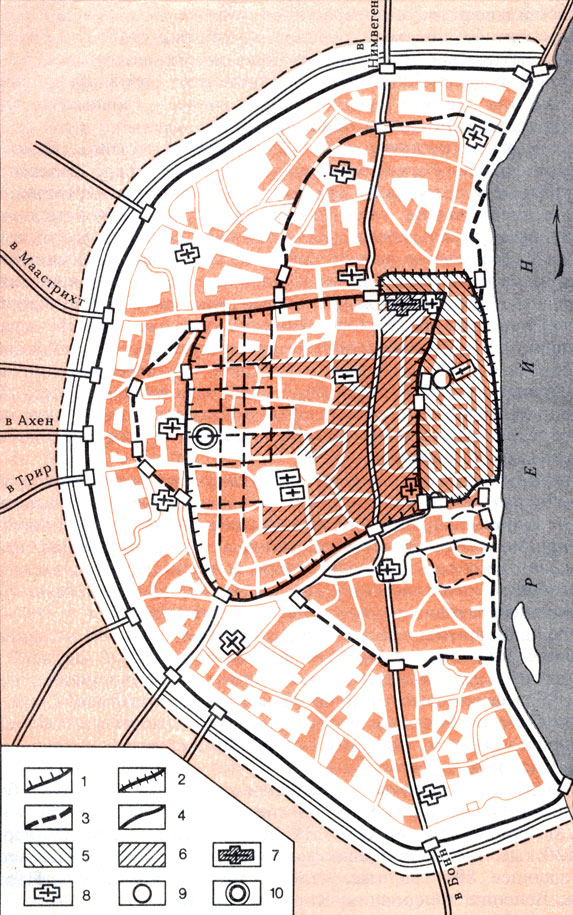
Средневековый город (Кёльн в конце XII в.): 1 — римские стены; 2 — стены X в.; 3 — стены начала XII в.; 4 — стены конца XII в.; 5 — торгово-ремесленные поселения; 6 — резиденция архиепископа; 7 — собор; 8 — церкви; 9 — старый рынок; 10 — новый рынок. Одним из наиболее распространенных типов городов средневековья были так называемые ‘многоядерные’ города, возникающие в результате слияния нескольких ‘ядер': первоначального поселения, позднейшего укрепления, торгово-ремесленного посада с рынком и т. п. Так, например, возник средневековый Кёльн. В его основе лежат римский укрепленный лагерь, резиденция местного архиепископа (конец IX в.), торгово-ремесленное поселение с рынком (X в.).. В XI- XII столетиях территория города и его население резко возросли
«Гильдия и коммуна: о возникновении «объединения»
и «общины» как основных форм совместной жизни в Европе
Тема «гильдия и коммуна» будет рассмотрена нами в трех аспектах. Во-первых, следует задаться вопросом о возникновении и происхождении «коммуны», ответ на который может быть дан только на основании исторического материала. Чтобы не попасть под вердикт Марка Блока относительно «hantise des origines» – преувеличения роли истоков явления и превращения вопроса о его происхождении в «идола» историков, необходимо сразу заметить, что речь, во-вторых, пойдет при этом не просто о вопросе происхождения этого феномена, но прежде всего о том, чтобы показать ту специфическую «культуру», которая имеет здесь место, и ее глубинную сущность в диахроническом развитии. И, наконец, в-третьих, следует вместить сюда ряд вытекающих из всего этого теоретических вопросов, которые в целом выходят за рамки обсуждаемой здесь нами эпохи Средневековья.
I
Вопрос о происхождении «коммуны» ставился уже неоднократно. До сих пор в исследованиях царит единое и неоспоримое мнение, что коммуна возникла в XI столетии в Италии и Северной Франции как коммуна городская[133] и что тем самым было положено начало формированию европейского бюргерства. Но как могло возникнуть коммунальное движение в городах? «Как в обществе с сильно выраженной идеей господства, каковым было средневековое общество до XI-XII вв., могла пробиться мысль, которая опиралась на принцип общины и способствовала прорыву нового понимания личной свободы и политического самоопределения?»[134]. Кнут Шульц, первым поставивший этот вопрос, ссылается, однако, на распространенные воззрения на возникновение коммуны[135].
Во-первых, существует так называемая «теория гильдий», согласно которой члены купеческих гильдий как «сообществ свободных путешествующих торговцев» применили знакомую им модель социальной организации в более масштабном контексте. Возражения против этого предположения, в свое время представленного среди прочих историков и у Ханса Планитца, известны. Оно, например, недооценивает значение сеньориального (королевского) рыночного права как одного из важнейших элементов «процесса становления города»: оснащение купцов «монетой, таможней, банным округом и особым правом». В «теории гильдий», как пишет далее К. Шульц, также не получила достаточного внимания «центральная проблема получения городскими жителями права наличную свободу», поэтому «прямое выведение» городской общины из купеческой гильдии следует исключить[136]. Согласно «теории Божьего мира» (Луиза фон Винтерфельд, 1927), городские коммуны следует возводить к более ранним установленным клириками и епископами «коммунальным» предписаниям о мире на уровне диоцезов[137].
К. Шульц справедливо возражает, что переход от «движения Божьего мира, носителями которого были церковные и господствующие слои» к «коммунальному бюргерскому требованию самоопределения» объяснить невозможно[138]. И наконец, коммуну еще выводят из более древних «общинных образований»: из рыночной общины и сеньориального рыночного права, из судебной общины, из объединения горожан для защиты и обороны, из рыночного товарищества, или из сельской общины, или из союзов соседей. Так, Сьюзен Рейнольдс сослалась на «географическое соседство, усиленное традиционной практикой права и локального господства» при возникновении городских коммун[139] – точка зрения, которую К. Шульц также считает недостаточно доказуемой[140].
Я предлагаю иную постановку вопроса. Ее исходным пунктом является хорошо обоснованное Герхардом Дильхером и Альбертом Фермеешем утверждение[141], что городская коммуна имела форму объединения на основе клятвы (geschworene Einung), conjuratio[142]. Иными словами, это было, (1) конституированное взаимным «заговором», т.е. взаимно данной промессивной клятвой, «объединение», которое как объединение (2) представляет собой связь индивидов, базирующуюся на договорных действиях (pactum), т.е. на соглашении и согласии, с целью (3) разносторонней взаимопомощи. Такие объединения или, точнее, клятвенные объединения возникают по большей части в условиях дезорганизации[143]. Речь здесь идет об определенной и специфической форме совместной (т.е. специфически групповой) социальной деятельности.
Поскольку всегда существует опасность, что современный исследователь доиндустриальных обществ может не воспринимать такие «формы» всерьез и в большей мере сосредоточиться на содержании, например на целях коммунальных движений (о чем, собственно, и свидетельствует вся дискуссия о возникновении коммуны), я напомню о выводе Эрика Хобсбаума о том, что социальные движения современности (Moderne) с XVIII в. «демонстрируют на удивление недостаточное количество сознательно созданных ритуалов» и что их члены поэтому связаны между собой «содержанием», а не «формами», в то время как в социальных движениях до наступления современной эпохи «форма играла гораздо большую роль», хотя отличие формы от содержания тогда, пожалуй, не могло осознаваться[144]. Действительно, формы суть нормы. Или, как выражаются историки права, форма есть самая древняя норма[145].
Присоединяясь к этим утверждениям и исходя из современного состояния исследований, следует задаться двумя вопросами. Во-первых, действительно ли коммуна является прежде всего и по существу городским феноменом? Во-вторых, действительно ли коммуна появляется только с XI столетия?
Мой тезис, который будет ниже обоснован, звучит иначе, а именно: коммуна является раннесредневековым феноменом, она возникла еще до XI в. Вначале она появилась в деревне. Сельская, крестьянская коммуна соответственно древнее, чем городская. Коммуна переместилась из деревни в город. Это можно показать на примере одного текста, в котором перед нашим взором предстает раннесредневековая крестьянская коммуна.
II
Этот текст содержится в истории герцогов Нормандии и англо-нормандских королей, он называется «Roman de Rou» и написан около 1170 г. на французском языке клириком Васом (Wace), жившим при дворе Генриха II[146]. Автор рассказывает в нем о некоем «восстании» крестьян в Нормандии, которое произошло более чем полтора столетия назад, в начале правления герцога Ричарда II (996-1026), т.е. около 1000 г.
Как сообщает Вас, нормандские крестьяне (li vilain, li paisant) собирались тогда группами от двадцати-тридцати до ста человек и проводили «собрания» – «парламент» (parlemenz). Там говорилось о господстве землевладельцев; их называли «врагами» и давали друг другу клятвы никогда больше не терпеть над собой никакого господина и скрепить это правовым установлением: е plusurs l’unt entreals juré, que ja mais par lur volunté n’avrunt seinur ne avoé. В качестве основания для таких разговоров Вас приводит длинный перечень случаев попрания господами крестьянских прав. Эти случаи были еще менее оправданны, пишет он, чем всякое господство вообще, которое необоснуемо, поскольку все люди равны. «Мы такие же люди, как вы, – такие аргументы приводили крестьяне на своих “парламентах”, – с такими же частями тела и с такими же телесными качествами, мы чувствуем так же, и нам не хватает, пожалуй, только мужества». Поэтому, как пишет Вас далее, распространился тогда всеобщий призыв к объединению на основе взаимно данной клятвы (Schwureinung), которое должно было послужить для защиты имущества и жизни присягнувших и объединить их для совместной обороны. Это клятвенное объединение собиралось также вооружаться, поэтому крестьяне обсуждали свои шансы против рыцарских войск.
За описанием этих крестьянских «парламентов» следует рассказ Васа о цели объединения. Она явно была скромнее, нежели можно заключить из первоначального изложения мотивов крестьян. А именно речь шла не о решительном отказе от крестьянских повинностей и служб в целом и не о генеральном сопротивлении землевладельцам. В большей мере речь шла лишь об осуществлении совместного свободного пользования лесами, пастбищами и водоемами для рубки деревьев, рыбной ловли, охоты. В этом аспекте, и явно только в нем одном, праву землевладельцев в будущем планировалось противопоставить уставное крестьянское право. Вас обозначает его как volonté. По его словам, крестьяне договорились «во всем» осуществлять свою «волю»: de tut ferum nos voluntez, des bois, des eaues e des prez. Volonté здесь следует понимать как правовой термин, соответствующий латинскому voluntas – произволение (произвол) как обозначение группового особого права в противоположность праву всеобщему, т.е. lex[147].
Судя по рассказу Васа, в конце концов дело дошло до того, что было вынесено общее решение, содержание которого – согласованная цель всего предприятия – было узаконено принесением взаимных клятв: «они поклялись друг другу (sunt entreseremente), что будут держаться вместе и сообща защищаться (ke tuit ensemble se tendrunt / e ensemble se defendrunt)». Затем были избраны (eslit) отдельные искусные в речах крестьяне, которые должны были в качестве делегатов разойтись по всему герцогству, чтобы и впредь созывать такие собрания и на них брать клятвы с тех, с кем еще не договорились (ki par tut le pais irunt / e les seremenz recevrunt). Также и эти собрания были обозначены Васом как parlamente. Правда, дальше этого дело не пошло, поскольку герцог Ричард узнал между тем об этих событиях и приказал схватить и жестоко наказать крестьянских посланцев, так как усмотрел в этом начинании мятеж против его власти, равно как и против власти других землевладельцев.
Итак, Вас делает читателя или слушателя своего исторического повествования свидетелем возникновения весьма сложного социально-правового образования, основанного на взаимно принесенной промессивной клятве. Цель этого образования состояла в осуществлении договорного крестьянского права, названного volonté. К условиям его реализации относилось, как можно понять из текста, также и обеспечение его защиты, для чего планировалось формирование вооруженного отряда. В XII в., т.е. во времена самого Васа, для обозначения такого комплексного, созданного на основе взаимной клятвы социально-правового образования использовалось латинское слово conjuratio в его общем значении, которое подразумевало как «заговор» в пейоративном смысле, так и «объединение на основе клятвы» в объективном, социально-правовом смысле. Но все-таки Вас не обозначил то, что создали нормандские крестьяне около 1000 г., как conjuratio. Он назвал это «коммуной»: vilein ситипе faseient – «крестьяне делают коммуну»[148].
Коммуна как комплексное социально-правовое образование, как форма conjuratio в том виде, как ее изображает Вас применительно к миру крестьян около 1000 г., представляется нам во многих аспектах «современной». «Современным» кажется то, что здесь – посредством принесения клятв – с одобрения всех участников вырабатывается и устанавливается определенный правовой порядок. «Современной» кажется нам также правовая фигура делегации и представительства, которая, как видно, играла значительную роль, но здесь она появляется в контексте социальной практики крестьянских слоев, а не в судебной практике или в ученом праве, где, как полагают историки права, она и возникла[149]. «Современным» кажется нам, кроме того, и учреждение «парламентов» (parlemenz), на которых было достигнуто и претворено в жизнь соглашение о клятвенном союзе и сформулированы его цели.
Именно из-за таких кажущихся нам столь «современными» моментов может возникнуть впечатление – и оно действительно возникает, – что все описанное Васом являет собой чистый вымысел, что речь идет о сообщении, не имеющем реальной исторической подоплеки, т.е. о литературной фикции. Некоторые исследователи, например Рольф Кён, усматривают в данном Васом описании «представительский орган с парламентоподобными собраниями избранных депутатов», что, по их мнению, как раз и доказывает фикциональность изложенного[150]. Поэтому, полагает Кён, «всякая попытка вычленить из рассказа Васа историческое зерно» изначально «бесперспективна»; она «пагубна» именно потому, что речь здесь идет «не об историописании», а о «литературе», о «героическом эпосе». Восстание крестьян Нормандии около 1000 г. является, по его словам, «химерой: легендарной, расплывчатой, живописной». Но именно этим мы и должны заняться далее: найти в описанном Васом «историческое зерно» и рассмотреть его поближе.
III
Проверить рассказ Васа на предмет его фиктивности или, напротив, реальности можно, если сделать то, что прежде никогда не делалось, а именно обратиться в наших рассуждениях к «форме» социальных действий и совместной жизни людей в группе, о которой идет здесь речь. Иными словами, нашим первым шагом будет сравнение крестьянской коммуны ок. 1000 г., описанной Васом примерно 170 лет спустя (1170), с ранними городскими коммунами, возникшими до и после 1100 г. в Северной Франции, – например, с коммуной Ле Мана (1070)[151] или с коммуной Лаона (1108/09), повествование о которой – сколь неприязненное, столь и подробное – оставил нам Гвиберт Ножанский в своей автобиографии[152].
Можно было бы также привлечь и первый сохранившийся устав городских коммун – устав коммуны города Валенсьена в Хеннегау от 1114 г.[153]. Мы не будем приводить здесь подробности такого сравнения, следует сказать лишь о его результате: об идентичности обеих форм проявления коммуны – городской, эпохи ок. 1100 г., и описанной Васом крестьянской коммуны ок.1000 г., а также о полном сходстве условий их возникновения в ситуации дезорганизации и крушения «общественного порядка», когда не было ни права, ни мира (рах), ни безопасности (securitas).
В случае коммуны в Ле Мане таким условием стало отсутствие правителя страны, герцога Вильгельма Завоевателя, отбывшего в Англию. Противоборство различных претендентов на обладание городом и графством, опустошение страны и беспрестанное требование новых налогов и поборов (exactiones) непосредственно привело к созданию conjuratio: Facta itaque conspiratione, quam Communionem vocabant, sese omnes pariter sacramentis astringunt[154]. Подобной была ситуация и в Лаоне: Urbi illi tanta ab antiquo adversitas inoleverat, ut neque Deus neque dominus quispiam inibi temeretur, sed ad posse et libitum cujusque rapinis et caedibus res publica misceretur <…>. Furta, immo latrocinia per primores et primorum apparitores publice agebantur. Nulli noctibus procedenti securitas praebebatur, solum restabat aut distrahi aut capi aut caedi. Поэтому между клириками, знатными людьми и народом – inter clerum, proceres et populum – было достигнуто согласие об объединении сил (mutui adjutorii conjuratio) [155].
Таким образом, и в Ле Мане, и в Лаоне, как показывают оба эти примера городских коммун ок. 1100 г., мы находим (наряду с другими, дополнительными) те самые элементы, которые уже известны нам по рассказу Васа: принесение промессивной клятвы, взаимопомощь как цель объединения, соглашение относительно особого правопорядка, созыв вооруженных отрядов. То же самое можно сказать и о других городских коммунах Северной Франции ок. 1100 г., которые в источниках обозначаются как communitas или чаще как communio и communia, во многих случаях также как coniuratio и conspiratio[156]. В датируемом серединой XII в. сообщении о возникновении городской коммуны Ле Мана, к которой, впрочем, присоединились также епископ, клирики и крестьяне из окрестностей, даже проводится различие между тремя аспектами восприятия группы такого рода: сторонние наблюдатели называют ее в определенной степени диффамирующим словом «заговор» (conspiratio); применяемое далее понятие coniuratio является социально-правовым обозначением объединения на основе клятвы; сами же члены группы говорят о ней как о communio.
Это латинское слово в свою очередь указывает на используемое в народном языке обозначение определенной формы социальных групп с их специфическими целями[157], воздействующее поэтому еще и как своего рода «боевой клич» или сигнал[158]. Пьер Мишо-Кантен определил его значение в том смысле, что
«речь здесь шла о спонтанном объединении вне рамок существующих институтов с целью создания нового».
Оно
«обозначало, по существу, объединение для взаимопомощи и поддержки между индивидами, которые осознают свою слабость внутри существующего социального порядка, пока пребывают в изоляции, и хотят устранить это путем создания связей между собой»[159].
Следует также подчеркнуть, что Гвиберт Ножанский в своем подробном описании коммуны Лаона (1114/17) счел упомянутое народное обозначение для данного социального объединения, которое он перевел как communio, не только «неприличным», но и «новым» – novum ас pessimum потеп[160].
IV
Сходство между возникшими ок. 1100 г. городскими коммунами и имевшей место ок. 1000 г. описанной Васом коммуной крестьянской показывает, таким образом, что у Васа речь не может идти просто о литературной фикции[161]. Но, поскольку Гвиберт Ножанский еще в начале XII столетия считает слово «коммуна», которое применяет также и Вас для обозначения клятвенного объединения крестьян в Нормандии ок. 1000 г., «новым», следует поставить другой вопрос: не идет ли в случае описанной Васом коммуны речь пусть и не о фикции, но хотя бы о проекции?
Иными словами, не могло ли так случиться, что Вас не то чтобы выдумал свою крестьянскую коммуну, но наделил крестьянское восстание, произошедшее ок. 1000 г., чертами современных ему городских коммун, т.е. спроецировал феномен городского мира своего времени (второй половины XII в.) на мир крестьянский, каким он был полтора столетия назад? Эта возможность уже попутно обсуждалась в работе Р. Кёна, когда он писал о «колорите XII столетия», с помощью которого «автор представил современным то, что произошло 200 лет назад». Имелись в виду такие понятия, как parlement, conseil, serement, commune – «как будто бы речь шла об одном из объединенных взаимными клятвами сообществ, которое Вас сам наблюдал как современник северофранцузских городских коммун и сельских общин»[162].
Для ответа на поставленный нами вопрос были бы полезны описания нормандских коммун современниками, но они не сохранились. Старейший текст, прежде Васа сообщающий об этих событиях, – латинские Gesta Normannorum ducum монаха Вильгельма из Жюмьежа. Он писал для Вильгельма Завоевателя ровно за 100 лет до Васа, ок. 1070 г., т.е. во время первых городских коммун[163]. Впоследствии Вас использовал это сообщение. Вильгельм из Жюмьежа оценивал события в Нормандии ок. 1000 г. так же, как и Вас, и со своей стороны тоже осуждал мятеж крестьян против землевладельцев. Однако понятие «коммуна» он тем не менее не использует. И о клятвах тоже ничего не сообщает. Но вот что важно: он указывает на некоторые моменты происходившего, которые в тексте Васа стоят в теснейшей связи с взаимным принесением клятв, хотя поведение крестьян Вильгельм представляет нам несколько по-другому. Следовательно, им описывается та же самая «форма», даже если отдельные ее элементы встроены в иной ход событий.
Согласно Вильгельму, крестьяне (rustici) различных графств по всему герцогству единодушно проводили многочисленные собрания (plurima conventicula), поскольку они решили жить «согласно их желанию» (или «по их ‘усмотрению’», iuxta suos libitus) в том смысле, что в отношении использования лесов и водоемов они «хотели действовать по собственным законам без оглядки на старое право» (nullo obstinente ante statuti iuris obice, legibus uterentur suis). Поэтому от каждого из этих собраний (соеtus) были выбраны по два делегата (legati), которые должны были доставить их решения на утверждение центрального собрания (mediterraneum conventum) и предъявить там. Эти legati были потом схвачены посланцами герцога. Он приказал отрубить им руки и ноги и с отрезанными языками отослал назад. Так было подавлено «крестьянское буйство» и уничтожено «крестьянское собрание» (rustica condo). И потому крестьяне зареклись на будущее от организации и проведения таких собраний.
Итак, Вильгельм из Жюмьежа имел в виду те же самые события, что и Вас: комплексный процесс формирования права и образование группы, это право осуществляющей, выговаривание особого права «по произволению», здесь названного lex. На какие источники опирается сообщение Вильгельма – установить невозможно[164]. На наш вопрос, не является ли изображение крестьянской коммуны у Васа анахронической проекцией, текст Вильгельма из Жюмьежа, послуживший Васу источником, ответить, таким образом, тоже не в состоянии. Однако следует признать, что Вас, как можно заключить из сравнения обоих текстов – от 1170 г. и от 1070 г., должен был иметь и другие источники, поскольку оба сообщения, хотя и описывают явно одно и то же социальное образование, акцентируют его отдельные моменты и временную последовательность их воздействия по-разному.
Получить ответ на наш второй вопрос можно, если решать его не через перспективу понятия «коммуна», а в аспекте понятия conjuratio. Данное понятие восходит именно к тому социальному образованию из мира крестьян в раннее Средневековье, которое по своей структуре имеет существенное сходство с коммуной: это гильдия. Отсюда, однако, отнюдь не следует постоянно повторяемый в исследованиях и справедливо отвергаемый тезис о том, что городская коммуна выросла из гильдии, в особенности купеческой. В большей степени речь идет о том, чтобы, учитывая исторические формы общественных объединений, выявить структуру conjuratio и, принимая во внимание именно различия «гильдии» и «коммуны», исследовать лежащую в основе их обеих единую форму conjuratio, тем самым описав «гильдию» и «коммуну» как формы проявления conjuratio.
Со времен Карла Великого, со второй половины VIII в., в источниках встречается упоминание о гильдиях, обозначаемых как gilda, societas, confratria, consortium, conventiculum и conjuratio, правда не в контексте их свидетельств о самих себе, а в запретах светских и церковных властей[165]. Хотя в них ясно дается понять, что это были гильдии. Речь идет о местных объединениях сельского населения, которые основываются на согласии, соглашении и договоре (convenientia) и в силу происхождения их членов могут быть определены как социальное образование на территории поместья, деревни и прихода. Их членами были клирики и миряне, мужчины и женщины.
 Именно членство в гильдиях женщин было тем пунктом, который постоянно стимулировал недовольство прежде всего церковных властей, давал повод для наихудших подозрений и мог служить обоснованием запрета. Основой таких гильдий была взаимная промессивная клятва. Целью, которую преследовало образование гильдии, являлась действенная защита и взаимная помощь во всех нуждах повседневной жизни, т.е. религиозная, экономическая и социальная поддержка. Основная духовно-религиозная идея гильдий каролингской эпохи состояла в caritas и fraternitas.
Именно членство в гильдиях женщин было тем пунктом, который постоянно стимулировал недовольство прежде всего церковных властей, давал повод для наихудших подозрений и мог служить обоснованием запрета. Основой таких гильдий была взаимная промессивная клятва. Целью, которую преследовало образование гильдии, являлась действенная защита и взаимная помощь во всех нуждах повседневной жизни, т.е. религиозная, экономическая и социальная поддержка. Основная духовно-религиозная идея гильдий каролингской эпохи состояла в caritas и fraternitas.
Исходя из систематизации форм общественных объединений, можно рассматривать гильдию и коммуну как две разные формы проявления объединения на основе клятвы – conjuratio. Но не менее значительными, чем общие черты гильдии и коммуны (взаимно данные клятвенные обещания, согласие и договор, соглашение о взаимной помощи в случае любой нужды), являются различия между ними. Безусловно важное отличие проявляется в том, что в гильдиях речь идет о «сообществах чисто личного характера», в то время как коммуна являет собой «местное» групповое образование[166], т.е. такую форму объединения в сообщество, которое локализуется в определенной местности или регионе. Гильдия, напротив, всегда определяется исключительно как группа лиц и не располагает территорией.
В аспекте этого отличия между гильдией и коммуной, с одной стороны, и общих черт между раннесредневековой гильдией и коммуной высокого Средневековья как формами conjuratio – с другой, следует обратить внимание на одно важное обстоятельство. А именно на то, что уже с IX в. существовали conjurationes, о которых при более детальном рассмотрении нельзя сказать определенно, можно ли их – в свете различий обеих данных форм – причислить к гильдиям, или все же это были скорее коммуны. Поскольку они, хотя и называются в источниках «гильдиями» или conjurationes, явно содержат еще и пространственный субстрат.
В 821 г. Людовик Благочестивый запретил conjurationes servorum, т.е. объединения зависимых крестьян на основе клятвы, которые возникали во Фландрии и в других прибрежных областях франкского государства и терпелись, даже, возможно, поддерживались землевладельцами. Эти conjurationes servorum могли быть связаны с засвидетельствованными источниками начиная с 820 г. первыми появлениями норманнов во Фландрии и в устье Сены и Луары[167]. Интересно, что в этом запрете обозначена и пространственная – региональная – локализация этих coniurationes. В 859 г. крестьянское население (vulgus promiscuum) снова образовало coniuratio в местности между Сеной и Луарой с целью обороны от норманнских нападений, и это объединение нельзя назвать гильдией, потому что оно распространялось на большую территорию[168].
На позднем этапе распада империи Карла, в 80-е годы IX в., население деревень (villani) в Западно-Франкском королевстве с целью обороны от «разбойничьих нападений» (здесь также можно предположить набеги норманнов) стало образовывать группы (collectae), которые называли себя на своем языке gildae – «гильдии»: quam vulgo geldam vocant. В определенной степени их целью было поддержание «общественного порядка» – также и созывом вооруженных отрядов – в то время, когда король и его графы, а также епископы больше не могли обеспечивать мир[169].
Самоназвание «гильдия» можно применить и как исследовательский термин для данного феномена, однако следует указать на то, что гильдии конца IX в. в отличие от гильдий эпохи Карла Великого совершенно очевидно представляли собой нечто большее, нежели основанные на чисто личных связях клятвенные союзы. В их случае речь шла, как намекают источники, именно о локализованных в определенной местности, например в деревне, группах. Данное обстоятельство, а также те мотивы, которые привели к образованию этих гильдий в позднекаролингское время – обеспечение «общественного порядка» или условия дезорганизации – в известной степени предвосхищают характерные черты городских коммун XI и XII вв. Вероятно, в начале X столетия в ходе стабилизации королевской власти при Генрихе I, т.е. в бывшем Восточно-Франкском королевстве, гильдии (conventicula) крестьянского населения формировались для защиты страны от венгров[170]. Инициатива исходила от самого короля. Аналогичный феномен в это же время упоминается и в англосаксонских источниках: английские исследования в этой области отмечают существование необычной формы «constitution-making» [171].
Таким образом, «объединение на основе клятвы» (conjuratio), будь то гильдия или коммуна, является социальным образованием, происходящим из крестьянского мира раннего Средневековья и уже там нашедшим широкое распространение. Поэтому у Васа, приблизительно в 1170 г. давшего свое описание крестьянского conjuratio как «коммуны», речь идет не о фикции или о проекции, а скорее о вполне реальном событии. В тексте Васа можно установить лишь незначительный, а именно терминологический анахронизм: Вас называет объединение крестьян на основе клятвы ок. 1000 г. «коммуной», тогда как это слово, как мы знаем от Гвиберта Ножанского, вошло в употребление для обозначения данной формы conjuratio только около 1100 г.
Мы охарактеризовали тем самым коммуну как форму социальной группы, существование которой изначально документировано в крестьянской среде раннего Средневековья, лишь оттуда она была перенята городом в XI-XII вв. Впрочем, в это же время имело место дальнейшее развитие и одновременное дифференцирование гильдий. Следует упомянуть о появлении первых купеческих гильдий в начале XI в.[172], вслед за которыми в конце столетия появились первые гильдии ремесленников, которые также называют цехами[173]. Таким образом, постоянно изменяющиеся социальные и экономические условия на Западе в раннее и высокое Средневековье, а также и в более позднее время вызывают к жизни все новые и новые формы conjuratio[174].
VI
То, что нам демонстрируют все эти свидетельства – пусть даже в контексте неприятия упоминаемых событий, осуждения их участников и диффамации мотивов последних, – является в целом специфической «культурой группы», «культурой conjuratio»[175]. Под «культурой» здесь следует понимать совокупность особых, присущих данной группе мыслительных схем, ментальностей и систем ценностей, совместных социальных действий, ритуалов и институтов – в их взаимопроникновении[176].
Групповая культура манифестируется прежде всего в социальной практике, о которой отчасти имеются сообщения внешних наблюдателей. При этом следует иметь в виду, что на фоне неприятия, диффамации и осуждения в таких сообщениях одновременно очень точно рассказывается о событиях, о мотивах участников и о социальной и правовой «форме» conjuratio: при всем неприятии происходящего автором текста в нем постоянно звучат и голоса «других». Можно сказать, что в таких сообщениях всегда имеет место рефлексия о двух «культурах» с их системами ценностей и отношением друг к другу – о культуре conjuratio и о культуре окружающего ее сословного общества[177].
На этом противопоставлении основывается вся критика conjuratio: говорится, например, что коммуна стремится обеспечить мир, а на самом деле ведет войну; коммуна хочет установить право — а сама практикует «произвол», «юстицию произвола»; программой коммуны является братство (fraternitas), и поэтому она ставит вопрос о «равенстве», но тем самым выступает против Богом установленного устройства сословного общества и его принципа «гармонии в неравенстве»[178], чем и объясняется упадок коммуны.
Такого рода размышления в отзывах «извне» на самом деле содержат в себе гораздо больше, чем может здесь показаться[179]: они сосредоточены вокруг проблемы противопоставления «группы» и «общества», осмысляемой в разных аспектах. Например, в аспекте противопоставления группового особого права (voluntas, consuetudo) и общепринятого права (lex) или в аспекте рефлексии о pax, fraterntas или caritas – категорий, по сути своей универсальных, превращение которых в специфически групповые нормы лишает их истинного достоинства и действенности. Иными словами, обнаруживаются «парадоксы» заговора, которые находят свое выражение в присвоении группой общепризнанных жизненных норм и в происходящем отсюда противостоянии (эксплицитной) партикулярности и (имплицитной) универсальности.
Сердцевиной этой культуры conjuratio – а потому и причиной ее критики и неприятия – является взаимно принесенное клятвенное обещание, промессивная клятва. Она конституирует культуру conjuratio, поскольку в обществе, в котором хотя и есть «государство», но нет монополии на легитимную власть к принуждению, т.е. в обществе с переплетением конкурирующих легитимностей, эта клятва создает правопорядок, безопасность и мир для круга тех, кто обменялся ею. Если право, безопасность и мир не гарантированы «сверху», т.е. по принуждению институтов власти, они могуч быть обеспечены путем «заговора» (Verschwörung). Это достигается прежде всего договором и согласием и затем социальным давлением, которое может оказывать такой институционализированный договор как на внутреннюю, так и на внешнюю среду.
Приносимая клятва не имеет никакой специальной символической функции и потому столь эффективна[180]. Она является договором с сильным связующим механизмом, основанным на универсальном принципе взаимности, т.е. является взаимным обязательством договаривающихся сторон, поддерживаемым мощными санкциями социального и религиозного характера. Для индивида это означает добровольность его действий при двойном ограничении его свободы: во-первых, со стороны обстоятельств, которые вынуждают его к действиям, вынуждают связать себя клятвенными обязательствами, во-вторых, природой самой этой клятвы, нарушение которой ведет к установленным по совместной договоренности санкциям и в конце концов к расторжению договора.
Такого рода обязательства всегда базируются на определенных ценностных установках. И этим обусловлена не только социально-политическая деятельность подобных форм «заговора» в современном им обществе, но и их длительное и, следовательно, историческое функционирование как «культуры». «Культура» обеспечивает стабильность во времена эпохальных переломов, в ситуации дезорганизации, связывая индивида групповыми ценностями, которые он рассчитывает срочно воплотить в жизнь, но в одиночку он этого сделать никогда не смог бы, поэтому придерживаться их он обязуется во взаимной договоренности с другими. Иными словами, речь идет не только о целерациональных действиях в смысле преодоления кризисной ситуации, но и о ценностно-рациональных. Или, словами Макса Вебера, не только о целевом контракте, но и о статусном. В этой связи, а именно в связи с городской коммуной, М. Вебер удачно указывает на практику «побратимства»[181]. Оно достигается принесением двусторонней промессивной клятвы и имеет следствием изменение «общего правового качества» и «социального образа (Habitus)» индивида: побратавшиеся должны впустить в себя «другую душу», т.е. «пообещать друг другу новое, в определенном смысле квалифицируемое как общественно ориентированное поведение»[182].
VII
Эти выводы относительно происхождения и истории ранних крестьянских коммун IX и X вв. можно в принципе использовать и в контексте более масштабных, также и в хронологическом аспекте, исследований.
(1) В качестве первого направления исследований можно было бы обратиться к описанию других крестьянских коммун высокого и позднего Средневековья. Тогда станет видно гораздо более отчетливо, как развиваются в это время «коммунальные» формы в городе и деревне.
Здесь можно было бы поговорить о мире и коммуне – рах et communia – на примере коммуны, образованной в XII в. жителями 17 епископских деревень в окрестностях Лаона и сначала признанной французским королем Людовиком VII в 1174 г., затем, однако, ликвидированной с одобрения Филиппа II Августа[183]. Как возникают такие conjurationes в условиях дезорганизации, показывает также инспирированное «капюшонниками» (caputiati) в Оверни в 1182-1183 гг. движение мира[184]. Далее можно было бы остановиться на разнообразных «сообществах» или «коммунах» в горных долинах Средней Италии (в Апеннинах) или в Альпах, которые во множестве встречаются во второй половине XII – начале XIII столетия[185].
Своим возникновением они обязаны многообразным политическим и экономическим факторам: колонизации новых земель, хозяйственному развитию альпийских долин, равно как и упадку аристократических родов, и итальянской политике Штауфенов. Прежде всего следовало бы проанализировать два примера крестьянских коммун и conjurationes эпохи высокого Средневековья, поскольку каждый из них, с одной стороны, имеет особенное значение, не исчерпывающееся непосредственными обстоятельствами возникновения коммуны, а с другой стороны, оба эти примера особенно интересны в связи с завязавшимися вокруг них дискуссиями. Я имею в виду, во-первых, знаменитое восстание крестьян-«штедингов» против бременского архиепископа в начале XIII столетия, в основе которого было объединение принесших взаимную клятву людей, в источниках обозначенное как universitas и по сути своей являвшееся conjuratio – крестьянской коммуной[186]. Во-вторых, самое, конечно же, знаменитое из всех крестьянских conjurationes – возникшее во второй половине XIII столетия на территории современной Швейцарии. Здесь речь пошла бы, таким образом, о примере не ранней, а, наоборот, поздней крестьянской коммуны[187].
(2) В качестве второго направления исследований можно также попробовать обратить взгляд на эпоху, предшествующую во времени появлению гильдий и «коммуноподобных» общественных образований – conjurationes IX в. Разумеется, речь тогда пойдет не о германцах, как слишком долго было принято думать[188], а о conjurationes римского мира и римской Галлии переходного от Античности к Средневековью периода[189]. В этой связи столь важная для старых исследований дихотомия «римского» или «романского» и «германского» вообще не будет играть никакой роли.
Тогда станет очевидным принципиально большее социальное значение данных форм общественных образований в эпоху перехода от Античности к Средневековью по сравнению с римской Античностью: в этот период посредством самоорганизации «снизу» устанавливалось – во многом заново – то, что к тому моменту уже больше не поддерживалось «сверху», а именно мир и безопасность – рах и securitas[190]. Впрочем, этот процесс можно распознать также и в новом значении клятвы в позднюю Античность. Согласно работам Штефана Эсдерса, в сфере промессивной клятвы во времена общественной трансформации от Античности к Средним векам клятва, подкрепляющая социальные обязательства, заменяется клятвой, конституирующей их. Иными словами, создававшиеся с одобрения властей и подкреплявшиеся взаимными клятвами объединения (geschworene Einungen) поздней Античности превращаются в раннесредневековые объединения, конституируемые посредством клятвы (geschworene Einungen)[191].
VIII
Вместо описанного выше диахронически ориентированного обобщения данную работу можно было бы закончить систематизацией более широкого спектра данностей, касающихся социальной истории Средневековья и перспектив ее изучения.
Первое. Мы видели, что коммуна как форма conjuratio появляется из недр аграрного мира Средневековья и что она поэтому тоже могла быть элементом формирования города как община городская. Из этого опять-таки видно, какое специфическое значение имело для городской культуры Западной Европы то обстоятельство, что коммуна родилась в аграрной среде, с которой могла вступать в многообразный обмен. Этот обмен явно был не только экономического характера.
Существенные элементы городской культуры и существенные импульсы для ее расцвета происходили из предшествующей крестьянской культуры раннего Средневековья. Это утверждение означает высокую оценку самой крестьянской культуры, которая не совпадает с господствующими ныне мнениями. Социально-экономические исследования постоянно подчеркивают «статичность» и «неподвижность» крестьянского мира раннего Средневековья, которому противопоставляется так называемая «эпоха перелома» и «новая социальная мобильность» европейской истории с XI-XII вв.
Новым вариантом этой интерпретации раннего Средневековья является распространяющееся сейчас мнение о нем как об «архаической эпохе»[192]. Крестьянский мир раннего Средневековья действительно можно рассматривать как «статический» и «неподвижный», но при этом нужно иметь в виду, что подобное его ведение возможно только через перспективу крупного землевладения. Источники из этой сферы, несомненно, дают важные сведения о раннесредневековом аграрном обществе, но они предлагают всего лишь одну перспективу. То обстоятельство, что сам факт образования общественного объединения и коммуны и обозначенная таким образом динамика в обществе могут быть выявлены только в контексте запретов и диффамации, объясняется лишь тем, что крестьянский мир раннего Средневековья был неграмотным.
Это, однако, не должно вести историка к ошибочным выводам. Наблюдение формирования, переформирования и распада крупного землевладения позволяет, конечно, сделать важные выводы о крестьянском мире Средневековья. Но это только один аспект. Лишь всеобъемлющее рассмотрение того далекого мира старой Европы выявляет глубинные корни образцов мышления и поведения, которые мы слишком легко воспринимаем как типично «современные» или вообще даже как исключительно «современные»: целенаправленные или ценностно-рациональные действия индивидов в договоре и согласии для достижения выговоренных целей; правовую фигуру делегации, юридическую форму особого, «уставного» права, которое устанавливается по взаимному согласию и становится обязательным для всех, кто участвовал в соглашении.
Второе. Интерес в области истории Средних веков направлен все еще исключительно на социальные слои, т.е. на аристократию, рыцарство, крестьян, высшие, средние и низшие городские слои. Гораздо меньше внимания уделяется социальным группам. Оправданность существования социальной истории, ориентированной на изучение возникновения и исторической роли сословий, слоев и классов, вряд ли можно подвергнуть сомнению. Хотя следовало бы задаться вопросом о том, не уместнее ли описывать европейское общество Средних веков, и, может быть, даже вообще все общество до современной эпохи (Vormoderne), в первую очередь в аспекте социальных групп.
В пользу этого есть серьезный аргумент, поскольку общественные «сословия», «слои» и «классы», собственно говоря, вообще не существуют. Или, точнее, они существуют как феномены «вымышленной действительности». Они являются образцами истолкования устройства «общества», т.е. мыслительными формами, с помощью которых живущие в данном обществе люди осмысляют его и объясняют, формируют для него нормы. Эти же образцы истолкования становятся затем материалом для исторического исследования, оперируя ими, историки предпринимают попытки постигнуть и объяcнить структуру обществ прошлого. Социальные группы, напротив, в соответствующий их существованию исторический момент «реальны» в той же мере, в какой реальны объединяющиеся в них – всегда по-разному – индивиды.
Преимущества ориентированной на изучение групп социальной истории Средневековья можно раскрыть в трех аспектах.
(а) Во-первых, следует указать на то, что средневековое общество, если воспринимать его как общество, складывающееся из групп, обретает в наших глазах совсем иные черты, в определенном смысле гораздо более «современные», чем если описывать его как общество сословное или феодальное. При этом речь идет, разумеется, не о новом обращении к столь часто и порою излишне фатально трактуемому противопоставлению современного «общества» (Gesellschaft) и средневековой «общности» (Gemeinschaft)[193], из которой индивид, т.е. «современный» человек, должен был мучительно долго высвобождаться, – при этом можно спорить о том, происходит ли это высвобождение в XII столетии, или в XIII в., или только в эпоху Ренессанса, или еще когда[194].
Если же сосредоточить взгляд на формах проявления conjuratio, то в любом случае видны не «естественные», «органические», «первоначальные общности», изначально связывающие индивида, а скорее группы, которые возникают и существуют на основе социальных действий индивидов, поскольку они возникают и существуют именно благодаря основанным на согласии и договоре действиям, направленным на достижение определенных целей[195]. Здесь видны не отношения некой предшествующей социальной «гармонии», а только отношения конфликта: объединения на основе клятвы возникают в ситуации конфликта, и к их основополагающим целям также относится урегулирование конфликтов их членов, как свидетельствует особое право таких групп.
Подобного рода размышления об индивиде и группе всегда соотносятся со сферой размышлений о «histoire de l’imaginaire» исторических исследований, т.е. с вопросом о том, исходя из каких более или менее рефлектируемых «образов» прошлого исследователь конципирует постановку проблемы, какие данные исторического материала он учитывает, а какие – именно из-за этих «образов» – с самого начала отметает. Как в истории Средних веков, так и в истории Нового времени большую роль при этом играет прежде всего само противопоставление «Средневековья» и «современной эпохи» (Моderne)[196], причем вопрос о «современности» Средневековья, о конституировании «современности» Средневековьем обычно недостаточно учитывается[197].
(б) Далее следовало бы поставить вопрос о том, не последовало ли (и если да, то в какой мере) образование сословий в известной мере посредством групп, т.е. какое значение имели определенные формы общественных образований и их социальное воздействие для того, чтобы начиная с какого-то момента стали восприниматься – а значит, существовать как «вымышленная действительность» – определенные «сословия». Этот вопрос до сих пор был поставлен только Максом Вебером в его работе «Город», причем в аспекте взгляда на городские коммуны как на специфически западноевропейскую форму объединения в общества и сообщества (Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung), такие как «объединение, союз» (Einung) и «братство» (Verbrüderung).
У Вебера этот вопрос прозвучал так: что означает городская коммуна для возникновения бюргерства? В исследованиях о данной проблематике речь идет постоянно[198], но на сам вопрос с тех пор, собственно, не было дано серьезного ответа. Аналогичные вопросы можно поставить и в отношении объединений на основе клятвы (Schwureinungen) ранних университетов и восприятия нового сословия магистров и студентов, которых тогда стали обозначать как новую форму clerici.
 (в) И, наконец, интерес представляет изучение групп в аспекте сравнительных исследований культур и соответственно специфического профиля западноевропейской культуры.
(в) И, наконец, интерес представляет изучение групп в аспекте сравнительных исследований культур и соответственно специфического профиля западноевропейской культуры.
В этом контексте, например, встает вопрос о сравнении «естественных» групп, таких как семья и группы кровного родства, с группами, объединенными по совместной договоренности, т.е. возникшими на основе согласия и договора. Какое значение имеют объединения по взаимному согласию (Коnsens-Vergesellschaftungen) по сравнению с группами кровного родства в различных культурах? Или: какие ритуалы предоставляют индивидам различные культуры для разрешения от уз естественного родства, чтобы таким образом иметь возможность вступить в родство «по договоренности», в «братство»?
Ханс Майер указал на то, что ислам не знает принципа общины[199]. Конечно, в исламе есть, например, религиозные объединения и объединения ремесленников, но они не имеют формы conjuratio[200]. Здесь также можно упомянуть и Византию. Поскольку в Византии не было ни гильдий, ни коммун[201]. Поразмыслить обо всем об этом стоит еще и потому, что все эти обстоятельства имели и имеют до сих пор определенные исторические последствия.
Третье. Как формы conjuratio в раннее Средневековье возникли гильдии, т.е. основанные исключительно на личных связях группы, и коммуны, т.е. имеющие место на определенной территории объединения на основе взаимно данной клятвы. Таким образом, со времен раннего Средневековья «объединение (Einung)», «ассоциация (Assoziation)», «союз (Verein)», с одной стороны, и «община (Gemeinde)» – с другой, являются основными формами общежития (Zusammenleben) людей в Западной Европе. Значение «коммунальных» форм объединения в общество (Vergesellschaftung) показал применительно к позднему Средневековью и раннему Новому времени Петер Бликле, давший интеллектуальный импульс изучению темы «коммунализма»[202].
Можно назвать также ряд работ, посвященных значению формы «гильдии» как «объединения» и «ассоциации»[203]. Это значит, речь больше не может идти о том, что имеющий место в современную эпоху «союз (Verein)» возник будто бы только в конце XVIII в. как отражение специфического сдвига модернизации[204]. Структурные элементы современного союза – принцип добровольности, тенденция к социальному равенству, формирование автономного регулирования его структуры и деятельности через формализацию, институционализацию и дифференцирование функций, – на которые обычно указывают при обосновании данного тезиса, отмечаются, как мы выяснили, задолго до современной эпохи, причем на протяжении многих столетий, хотя и возникает впечатление, что в конце так называемой эпохи ancien regime, после декорпорации общества, союз в этой новой фазе своей истории представляет собой абсолютно новое начало. Иными словами, упомянутые структурные элементы можно обнаружить уже в средневековых общественных объединениях. Никто не станет оспаривать тот факт, что модернизация около 1800 г. отразилась на современных союзах. Но для его подтверждения должны быть найдены какие-то другие доказательства[205].
Сказанное наводит на мысль о том, что вся длительная история «объединения» («союза)» и «общины» нуждается в подробном освещении как в своей реальной исторической протяженности, так и в сопоставлении с традицией истолкования этих феноменов, т.е. в контексте истории ментальностей и социального знания. Лотар Галл показал, как с начала XIX столетия в русле рефлексии об общине и об отношениях между общиной и государством возникают политические идеи[206].
Нечто подобное происходит в это же время и в контексте обсуждения проблематики союза и ассоциации со всей их длительной предысторией[207]. Итальянские гуманисты, такие как Колюччо Салютати или Пико делла Мирандола, разработали теорию «братства» и показали его значение для сохранения мира и права в городе[208].
Политические теоретики эпохи, предшествующей Современности, – Жан Боден или Алтузий – отводили значительное место в своих размышлениях «объединению»[209], в то время как в XVIII столетии Жан-Жак Руссо и Адам Смит изображали «корпорации» как препятствие для социально-политического и экономического прогресса[210]. Также и в политическом мышлении современной эпохи, например у Гегеля или Токвиля[211], равно как в дискуссиях об «ассоциации» и «корпорации»[212] начала XIX в., речь шла о принципах современного общества и довлеющих над ним социально-политических максимах.
Поэтому один из самых крупных научных споров в немецкой историографии XIX – начала XX в., а именно дискуссия между Георгом фон Беловом и Отто фон Гирке, сосредоточился вокруг проблемы «объединения» в «феодализме»[213]. Также в эпоху подъема исторической науки о культуре в конце XIX в. – у Фердинанда Тенниса, Георга Зиммеля и Эмиля Дюркгейма – речь идет по существу о проблеме групп в обществе и об их конститутивной роли[214]. Эти же вопросы обсуждает и Макс Вебер в рамках своей теории Современности и модернизации на Западе, причем он, исходя из своей концепции социологии власти, права и религии, дал на них совсем иные ответы, нежели Тённис, Зиммель и Дюркгейм[215]. Бросается в глаза то обстоятельство, что в исследованиях по Средневековью релевантность этих выводов Макса Вебера все еще нуждается в обосновании и разъяснении[216].
Из этих дискуссий видно, насколько глубоким было влияние феноменов гильдии и коммуны. Их длительная история позволяет понять, что современное социально-политическое мышление, т.е. рефлексия о «социальном знании», еще и в XIX и в XX столетиях явственно находилось под воздействием этих явлений.
1996
«Действительность и знание: очерки социальной истории среднеековья». М.: НЛО, 2008. С.99-156.
Примечания
[1]В сравнении с доминирующим сейчас «западным» капитализмом, быт и человеческие отношения вн6утри которого ложно считаются «естественными» (в т.ч. в смысле «извечными») и «общечеловеческими». Эта тенденция проецировать современные культурные склонности на отдалённое прошлое была названа «флинстоунизация», по одноимённому мультфильму.
«Термин «флинстоунизация» впервые употребил Л. Левин [Levine, 1996]. Следует отметить, что Флинстоуны занимают уникальное место в современной американской культурной истории. Это был первый вечерний мультсериал для взрослых, первый вечерний мультсериал, длившийся более двух сезонов (пока этот рекорд не был побит Симпсонами в 1992 г.), и первая мультипликационная программа, показывавшая мужчину и женщину вместе в постели».
Фактически это бытовой вариант ценного принципа актуализма но, в отличие от него, поддерживаемый не только нехваткой знаний, но и идеологической потребностью оправдать современную жизнь западного обывателя, несмотря на её очевидные недостатки, разнообразные «жмущие места» и пр. В силу последнего склонные так мыслить не меняют своей позиции при представлении данных, противоречащих их точке зрения, но выдумывают объяснения, почему последние не следует принимать во внимание (и чем дальше, тем больше направляющие с илу ума только на это) — в противоположность учёным, следующим принципу актуализма. Когда «нулевая гипотеза» о переносимости современных условий в прошлое опровергнута, от неё отказываются.
[2]См. также: Daniel Wegner, «Transactive Memory in Close Relationships», Journal of Personality and Social Psychology (1991), vol. 61, no. 6, p. 923–929. Еще одно обстоятельное обсуждение см. в работе: Daniel Wegner, «Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind», in Brian Mullen and George Goethals (ed.), Theories of Group Behavior (New York: Springer-Verlag, 1987), p. 200–201.
[3]В разделе статьи про орудийную деятельность не упомянут карликовый шимпанзе — бонобо Pan paniscus, способный к спонтанному использованию сложных орудий (составных или неэффективных без специальной дообработки перед действием) и построением сложных планов, как добыть сильно спрятанный корм с удержанием их в голове. Соответственно, у него объём кратковременной рабочей памяти, скорей всего, выше чем у шимпанзе (4-5), но меньше чем у современных людей (5-7). Вероятно, при способностях к орудийной деятельности, сравнимо с таковыми архантропов, даже лучший из lange-trained apes — бонобо Канзи — так и не достиг уровня двухлетних детей, использующих фразы из 2-х слов чаще, чем односложные высказывания.
[4] По-видимому, сходную роль играла религия в первых городах, когда скученность людей на ограниченной площади и интенсивность контактов впервые стали на порядок большими, чем в предшествующем типе поселений.
[5]Жаль, что они вымерли; иначе можно было бы сравнить общее и различное с нами в использовании «техник им. Демосфена» (см. также ниже) для решения радикально новых задач, постоянно «подбрасываемых» культурным развитием.
[6]более новых, чем предложение шимпанзе использовать языки-посредники для общения с воспитателем или друг с другом, к бонобо — сконструировать орудия типа использовавшихся древними людьми для доступа к спрятанному корму и пр.
[7] Психологическое орудие — искусственное образование; по своей природе социальное, а не органическое или индивидуальное приспособление; оно направлено на овладение процессами поведения – чужого или своего так, как техника направлена на овладение процессами природы. Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т.д.
Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие так же видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, определяя своими свойствами строение нового инструментального акта, как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций. Во-первых, оно вызывает к деятельности целый ряд новых функций, связанных с использованием данного орудия и с управлением им; во-вторых, отменяет и делает ненужным целый ряд естественных процессов, работу которых выполняет орудие; в-третьих, видоизменяет протекание и отдельные моменты (интенсивность, длительность, последовательность и т.п.) всех входящих в состав инструментального акта психических процессов, замещает одни функции другими, т.е. перестраивает, пересоздает всю структуру поведения. (1.1.5, 103 – 106). См. Инструментальный акт, Поведение, Функция, Язык». См.: «Словарь Л.С.Выготского». М.: Смысл, 1997.
[8]Возможно, это верно и для неандертальцев, также имевших продолжительное детство, а дети были в центре внимания группы (видимо, они не отличались по этому показателю от ранних сапиенсов).
[9]О значении обоих этих элементов см.: Kaufmann F. Altdeutsche Genossenschaften//Wӧrter und Sachen. 1910. Bd. 2. S. 9-42 (S. 20); Cachen M. Ètudes sur le vocabulaire du vieux-scandinave. La libation. Paris, 1921. P. 62.
[10]Brunner 0. Land und Herrschaft. Wien, 1965. 5. Aufl. S. 130 ff.; Ariès Ph. L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime. Paris, 1973. 2. Ed. P. 270 s.; Thomas K. Work and Leisure in pre-industrial Society//Past and Present. 1964. Vol. 29. P. 50-62.
[11]Изучение гильдий ремесленников и цехов, особенно в германской историографии, исходило прежде всего из приоритетного рассмотрения их хозяйственной деятельности и целей. С точки зрения социальной истории это неверно. См. об этом: Еппеп Я Zünfte und Wettbewerb/Neue Wirtschaftgeschichte. Kӧln; Wien. 1971. Bd. 3. S. 5 ff. У французских историков дело обстояло несколько лучше: Coomaert È. Les ghildes mèdièvales (V-e – XTV-e siècles)//Revue historique. 1948. Vol. 199. P. 22-55; 208-243; Heers J. L’Occident aux XIV-е – XV-e siecles. Aspects èconomiques et sociaux // Nouvelle Clio. Paris, 1970. Vol.23. P. 333 ss.; Новый взгляд см.: Kӧstlin К. Gilden in Schleswig-Holstein. Gӧttingen, 1976. S. 34 ff.
[12]Mauss M. Essai sur le don (23/24)//Idem. Sociologie et anthropologie. Paris, 1978. 6. Ed. P. 143-279 (P. 147, 274); Kӧnig E. E. Durkheim zur Diskussion. München; Wien, 1978. S. 278 ff.
[13]Gierke O. Das deutsche Genossenschaftsrecht. Bd. 1: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. Berlin, 1868. S. 228, 226.
[14]Coomaert È. Les ghildes mèdièvales (V-e – XIV-e siècles). P. 243: «engagèes dans toutes relations humaines, engangeant les hommes tout entiers». Cp. также сходные с выводами О. Гирке замечания в работе: Deschamps J. Les confrèries au moyen àge. Bordeaux, 1958. P. 50-51.
[15]Об этом см.: Michaud-Quantin Р. Universitas. Р. 233-245.
[16]Ср.: Dilcher G. Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Aalen, 1967. S. 142 ff. См. также работы, указанные в примем. 22 о североальпийских коммунах XI в.
[17]Erler А., Kornblит U., Dilcher G. Art. «Eid»//Handwӧrterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Berlin, 1971. Bd. 1. Sp. 861-870 (Sp. 862, 866).
[18]Ebd. Sp. 868.
[19]Michaud-Quantin P. Universitas. P. 233.
[20]Об этих клятвах см.: Erler А., Kornblит U., Dilcher G. Art. «Eid». Sp. 866f.; Schmidt-Wiegand R. Eid und Gelübnis, Formel und Formular im mittelalterlichen Recht//Vorträge und Forschungen. Sigmaringen, 1977. S. 55-90.
[21]См. основательное исследование взаимно данных клятв в: Michaud-Quantin Р. Universitas. Р. 233-245.
[22]К примеру, в Ле Мансе в 1070 г. (см. примем. 32). Подробнее: Vermeesch А. Essai sur les origines et la signification de la commune dans le Nord de la France (XI- e et XII-е siècles). Heule, 1966. P. 81 ss.; DeetersJ. Die Kӧlner conjuratio von 1112//Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Kӧln. 1971. Bd. 60. S. 125-148 (S. 138 ff).
[23]Kӧrner Th. Iuramentum und frühe Friedensbewegung (10.-12. Jahrhundert)//Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung. Berlin, 1977. Bd. 26. S. 97 ff.
[24]Ebel W. Der Bürgereid. Weimar, 1958.
[25]Подробнее см.: Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[26]Gierke 0. Das deutsche Genossenschaftsrecht. S. 221.
[27]WeberM. Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe. Tübingen, 1972. 5. Aufl. S. 402 f. Об объединении на основе взаимно данной клятвы см.: Kroeschell К. Art. «Einung» (примеч. 4). Sp. 910 f.
[28]Weber М. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 401.
[29]Dilcher G. Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. S. 86, 151.
[30]Michaud-Quantin P. Universitas. P. 129 ss.; Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[31]Hauck K. Formes de parente artificielle dans le Haut Moyen Age/G.Duby, J. Le Goff (Ed.). Famille et parenté dans l’Occident médiéval. Roma, 1977. P. 43-47 (P. 43).
[32]Это засвидетельствовано уже в документах IX в. (см. многочисленные примеры в: Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit). Взаимные клятвы создают отношения равенства, что видно на примере коммуны Ле Манса 1070 г.: G. Busson, A. Ledru (Ed.). Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium. Le Mans, 1901. P. 377 s.
[33]Cp.: Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[34]О бургундской гильдии ок. 1000 г., куда входили клирики, миряне и nobiles feminae matronae, см.: Meersseman G. G. Ordo fratemitatis (1). S. 85. О членстве женщин в английских гильдиях свидетельствуют списки гильдии Св. Петра (Exeter, ок. 1100): В. Thorpe (Ed.). Diplomatarium Anglicum aevi Saxonici. P. 608-610. Известен феномен датских гильдий XII-XIII вв., например устав гильдии Св. Кнута в Фленсбурге: Pappenheim М. Die altdänischen Schutzgilden. Breslau, 1885. S. 441-453 (c. 34, 36, 44, 45, 50). Паппенхайм ошибочно выводил гильдию из кровного родства у германцев и поэтому рассматривал членство в них женщин как «несущественный признак гильдии», в котором проявлялось скорее «церковное влияние». Членство женщин в братстве (fraternitas) кельнских столяров документировано главой 4 его устава от 1180 г.: Loesch H.v. Die Kӧlner Zunfturkunden 1/Publikationen der Gesellschaft fur rheinische Geschichtskunde. Bonn, 1907. Bd. 22. S. 34. № 13.
[35]Le Bras G. Les confréries chrétiennes//Idem. Études de sociologie religieuse. Paris, 1956. Vol. 2. P. 423-462 (440). Моменты равенства внутри гильдий и членства в них женщин (см. примеч. 26) обусловили известное противоречие гильдии с образом средневекового общества как созданного вассальными связями, иерархического, «мужского» и аристократического. См. об этом: Le Goff J. Le rituel symbolique de la vassalite//Idem. Pour un autre Moyen Age. Paris, 1977. P. 349-420 (P. 381).
[36]См., напр., именные списки fraternitas из Модены и societas sancti Mauricii из Тура, изданные: Meersseman G.G. Ordo fraternitatis (1). P. 98, 101-105.
[37]Cp.: Dilcher G. Art. «Conjuratio»; Kroeschell K. Art. «Einung».
[38]Deeters J. Die Kӧlner conjuratio von 1112. S. 140.
[39]Например, в первом параграфе устава купеческой гильдии Валансьена: Caffiaux Н. Mémoire sur la charte de la frairie de la halle hasse de Valenciennes (XI-е et ХП-e siècles)//Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France. 1877. Vol. 38. P. 1-41 (§1. P. 25; об обете мира перед вступлением в гильдию §17. Р. 30). Также в уставе гильдии Сент-Омера: Espinas G., Pirenne Н. Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer//Le Moyen Age. 1901. Vol. 14. P. 189-196 (§4. P. 193).
[40]Valenciennes. §5-7. P. 28; S. Omer. §8-12. P. 193 s., §15. P. 194. Cp. также уставы английских и датских гильдий (примеч. 6 и 28).
[41]Valenciennes. §4. Р. 28; S. Omer. §5, 7. Р. 193; §26. Р. 196.
[42]Janssen W. Art. «Friede»//Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart, 1975. Bd. 2. S. 543-591 (S. 543).
[43]Ebel W. Die Willkür//Gӧttinger rechtswissenschaftliche Studien. Gӧttingen, 1953. Bd. 6. S. 7; 64.
[44]Alpert von Metz. De diversitate temporum//Werken uitgeven door het Historisch Genootschap. Derde Serie 37/A. Hulshof (Hg.). Amsterdam, 1916. S. 50. Cp.: Kroeschell К. Deutsche Rechtsgeschichte. Reinbeck, 1972. Bd. 1. S. 120 f. О запрете Фридрихом II городских консулов в Провансе в 1226 г. см.: MGH. Const. Bd. 2. S. 140. №108.
[45]Kroeschell К. Art. «Einung». Sp. 912. В старейших из сохранившихся уставов гильдий XI в. речь идет об автономном уставном праве. См. подробнее: Caffiaux Н. Mémoire sur la charte de la frairie de la halle hasse de Valenсiennes. P. 11. О «самовластии» в цеховых уставах см.: Dieling F. Zunftrecht//Heidelberger rechtswissenschaftliche Abhandlungen. 1932. Bd. 15. S. 10 ff.
[46]О судебной системе см.: Krause Н. Die geschichtliche Entwicklung des Schiedsgerichtswesens in Deutschland. Berlin, 1930. S. 20 f. Специально об автономной юрисдикции коммун XI в.: Vermeesch A. Essai sur les origines et la signification de la commune. P. 142, 153.
[47]Подробнее: Oexle O. G. Gilden als soziale Gruppen.
[48]О компетенции гильдейских судов разбирать гражданско-правовые дела свидетельствуют §2, 3, 23 устава гильдии Сент-Омера: Espinas G., Pirenne Н. Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer. P. 193, 195; Spieβ P. Art. «Kaufmannsgilde»/Handwӧrterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Berlin, 1978. Bd. 2. Sp. 687-964 (Sp. 689).
[49]Cp. со статутами гильдии Кембриджа (ок. 1000 г.): В. Thorpe (Ed.). Diplomatarium Anglicum aevi Saxonici. P. 611; фленсбургской гильдии Св. Кнута (ок. 1200 г.) и датских гильдий: Pappenheim М. Die altdӓnischen Schutzgilden. S. 441.
[50]Подробнее: Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen.
[51]Vermeesch A. Essai sur les origines et la signification de la commune. P. 147,153; Deeters J. Die Kolner conjuratio. S. 140.
[52]Для гильдии Сент-Омера, например, такую функцию, согласно § 22 устава, выполнял колокол монастыря Св. Одомара, который звонил с «custos Sancti Audomari». Об этом: Espinas G., PirenneH. Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer. P. 195. Значение колокола как символа conjuratio хорошо видно из «Carta pacis» гильдии Валансьена (MGH SS. S. 605-610). Об этом также см.: Michaud-Quantin Р. Universitas. Р. 149, 297. Если запрещали звонить в колокол, это означало одновременно запрещение conjuration – например, как в случае запрета Фридрихом II, потом Генрихом VII коммуны Камбре (1226): MGH. Const. Bd. 2. S. 135. № 106; S. 408-409. № 292, 293.
[53]См., например, §12-13 устава гильдии Валансьена или §4 и §15 устава гильдии Сент-Омера: Caffiaux Н Mémoire sur la charte de la frairie de la halle hasse de Valenciennes. P. 29; Espinas G., Pirenne H, Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer. P. 193.
[54]Michaud-Quantin P. Universitas. P. 309, 324.
[55]Caffiaux Н. Mémoire sur la charte de la frairie de la halle hasse de Valenciennes. P. 29 (§ 14).
[56]О выборах в итальянских коммунах: Keller Н. Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der Sozialgeschichte//Fruhmittelalterliche Studien. 1976. Bd. 10. S. 169-211 (S. 179 ff.); Ditcher G. Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. S. 149; Ulmann W. The Individual and Society in the Middle Age. Baltimore, 1966. P. 57 f.
[57]HeersJ. Fêtes, jeux et joutes dans la sociétés d’Occident à la fin du Moyen âge. Montréal; Paris, 1971. P. 77-78; Simmel G. Soziologie der Mahlzeit//Mem. Brücke und Tür. Stuttgart, 1957. S. 243-250 (S. 245).
[58]Ср., например: Coornaert É. Les ghildes médiévales. P. 33; Dhondt J. Das frühe Mittelalter//Fischer Weltgeschichte. Frankfurt a. M., 1968. Bd. 10. S. 118-121, 303. Обзор дискуссии см.: Oexk O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[59]Deschamps J. Les confréries au moyen âge. P. 59 s., 79.
[60]Подробнее см.: Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[61]Ер. №290/MGH Epp. Bd. 4. S. 448.
[62]De diversitate temporum II, 20.
[63]Anselm von Canterbury ep. II, 7/PL.T. 158. Col. 1154 s.; Giraldus Cambrensis. Gemma ecclesiastica II, 19 // Giraldi Cambrensis opera / J.S. Brewer (Ed.). London, 1862. Vol. 2. Р. 255-258; Н. Denifle, Ае. Chatelain (Ed.). Chartularium universitatis Parisiensis. Paris, 1899. Vol. 1. P. 79 (№ 20). Интерпретация этого текста у Ф. Ариеса (Aries Ph. L’enfant et la vie familiale. P. 269, 278) не учитывает существования письменной традиции запретов гильдейских трапез.
[64]LutherМ. Von der Bruderschaften/Weimarer Ausgabe. 1884. Bd. 2. S. 754. О том, насколько относительна информативность таких высказываний, см.: Kӧstlin К. Gilden in Schleswig-Holstein. S. 63 ff.
[65] DeschampsJ. Les confréries au moyen âge. P. 103; Heers J. Fêtes, jeux et joutes. P. 88, 141. О проповеднической деятельности мирян в гильдиях см.: Meersseman G. G. Ordo fraternitatis (3)//Italia sacra. Roma, 1977. Vol. 26. P. 1273-1289.
[66]Об этом свидетельствует, например, устав гильдии Валансьена §4 (Caffiauх H. Mémoire sur la charte de la frairie de la halle hasse de Valenciennes. P. 27).
[67] Данные приводятся в: Ker N.R. Catalogue of Manuscripts containing Anglo-Saxon. Например, списки имен членов fraternitas Модены приведены в некрологе, списки членов гильдии Тура – в сакраментаре.
[68]О поминальной трапезе в гильдиях подробнее: Оехle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[69] См. публикацию «Memoria и мемориальная традиция в раннее Средневековье» в данном томе.
[70]См. примеч. 78 в: Michaud-Quantin Р. Universitas. Р. 265.
[71]Многочисленные примеры см.: Loesch H.v. Die Kӧlner Zunfturkunden.; H. Denifle, Ae.Chatelain (Ed.). Chartularium universitatis Parisiensis.
[72]Поэтому исследователи обозначают гильдии как «une paroisse nonsensuelle»: Le Bras G. Les confréries chrétiennes. P. 454.
[73]Zerfaβ R. Der Streit um die Laienpredigt/Untersuchungen zur praktischen Theologie. Freiburg i.Br., 1974. Bd. 2. S. 208.
[74]В 1112-1115 гг. клирики Домского собора в Утрехте называли группу сторонников еретика Танхельма fraternitas quedam, quam gilda vulgo appellant (Ph. Jaffeé (Hg.). Biblioteca rerum Germanicarum. Berlin, 1869. Bd. 5. S. 298). Это замечание может указывать на простонародный состав группы, но может быть и просто диффамирующим обозначением. Аналогичная гильдии структура четко просматривается в группах флагеллянтов XIV в. (HübnerA. Die deutschen Geiβlerlieder. Berlin; Leipzig, 1931. S. 13 ff.).
[75]Примеры аналогий между «сектами» и «братствами» см.: DeschampsJ. Les confréries au moyen âge. P. 180 s.
[76]Подробнее см.: Zerfaβ R. Der Streit um die Laienpredigt. S. 156 ff., 207 f. Эта связь отчетливо видна, например, в запрете Папой Клементом VI в 1349 г. societates и conventicula флагеллянтов: Р. Fredericq (Ed.). Corpus documentorum inquisitionis hereticae pravitatis neerlandicae. Gent, 1889. P. 199-201 (№ 202).
[77]Keller H. Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen. S. 204; Idem. Einwohnergemeinde und Kommune: Probleme der italienischen Stadtverfassung im 11. Jahrhundert//Historische Zeitschrift. 1977. Bd. 224. S. 561-579 (570 ff.).
[78]Подробнее: Oexle O. G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[79]О каролингских гильдиях см. там же. Об английских и датских см.: В. Thorpe (Ed.). Diplomatarium Anglicum aevi Saxonici; Pappenheim M. Die altdӓnischen Schutzgilden.
[80]B. Thorpe (Ed.). Diplomatarium Anglicum aevi Saxonici. P. 614.
[81]Pappenheim M. Die altdӓnischen Schutzgilden. S. 441.
[82]Устав гильдии Валансьена §1 (Caffiaux Н. Mémoire sur la charte de la frairie de la halle hasse de Valenciennes. P. 255). О названии этой гильдии см.: Там же § 6. С. 28. О caritas в гильдиях в целом см.: Michaud-Quantin Р. Universitas. Р. 197.
[83]Поэтому критика именно данного положения содержится уже в ранних запретах гильдий клириков в Орлеане (538 г.). Подробнее см.: Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[84]Устав гильдии Валансьена §4 и §11 (Caffiaux Н. Mémoire sur la charte de la frairie de la halle hasse de Valenciennes. P. 27, 29). Подобное есть и в уставе гильдии Сент-Омера §28 (Espinas G., Pirenne Н. Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer. P. 196).
[85]Подробнее см.: Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit.
[86]См. примеч. 6 и 34; Kraack G. Das Gildewesen der Stadt Flensburg. Flensburg, 1969. S. 17-22.
[87]Для Нового времени многочисленные – примеры приводятся в: Duparc В.Р. Confrériers du Saint-Esprit et communautés d’habitants au moyen-âge//Revue historique de Droit francais et étranger. 1958. Vol. 36. P. 349-367; 555-585; Michaud-Quantin P. Universitas. P. 263 s.; Hears J. L’Occident aux XIV-е – XV-e siécles. P. 336.
[88] Примеры см. в издании: Meersseman G. G. Ordo fratemitatis//Italia sacra. Roma, 1977. Vol. 24-26.
[89]Reininghaus W. Zur Entstehung der Gesellengilden im Spӓtmittelalter. Münster, 1980.
[90]MoellerE.v. Elendenbrüderschaften. Leipzig, 1906; Lambert É. Le pélerinage de Compostelle. Paris; Toulouse, 1959. P. 15 s.; Reintges Th. Ursprung und Wesen der Spӓtmittelalterlichen Schützengilde//Rheinisches Archiv. Bonn, 1963. Bd. 58. Сведения о гильдиях pauperes содержит работа Maschke Е. Die Unterschichten der mittelalterlichen Stadte Deutschlands//Die Stadt des Mittelalters/C. Haase (Hg.). Darmstadt, 1973. Bd. 3. S. 345-454 (448 f.).
[91]Klein H. Die Entstehung und Verbreitung der Kalandesbruderschaften in Deutschland. Diss. Saarbrücken, 1958; Michaud-Quantin P. Universitas. P. 90 s.; Meersseman G.G. Ordo fraternitatis (1). P. 113-169; Helmed Th. Der groβe Kaland am Dom zu Munster im 14. bis 16. Jahrhundert: Mittelalterliche Geschichte. Münster, 1979.
[92]De diversione temporum II, 20.
[93]Simmel G. Soziologie der Mahl. S. 509.
[94]Устав гильдии Сент-Омера §1 (Espinas G., PirenneH. Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer. P. 192).
[95]De diversione temporum II, 20. О привилегиях в тяжбах XI – XII вв. см.: Еппеп Е. Die europӓische Stadt des Mittelalters. Göttingen, 1975. S. 107 f.
[96]Устав гильдии купцов Валансьена §4 и §10 (Caffiaux H. Mémoire sur lacharte de la frairie de la halle hasse de Valenciennes. P. 28, 29). Выражение en non de caritet означает здесь «во имя милосердия (caritas)», т.е. «во имя гильдии». См. примеч. 82.
[97]Устав гильдии Сент-Омера §3 (Espinas G., Pirenne Н. Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer. P. 193). Подробнее: MayerE. Deutsche und französische Verfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jahrhundert. Leipzig, 1899. Bd. 2. S. 238; Loesch H.v. Die Kölner Kaufmannsgilde im zwölften Jahrhundert//Westdeutsche Zeitschrift. Ergӓnzungsheft 12. Trier, 1904. S. 8f.
[98]De diversione temporum II, 20. Интерпретацию этого места текста Альперта Метцского см.: Loesch H.v. Op. cit. S. 5f.
[99]Устав гильдии Сент-Омера §2 (Espinas G., PirenneH. Les coutumes de la glide marchande de Saint-Omer. P. 193). Подробная интерпретация этого пункта есть в работе: Mayer Е. Op. cit.
[100]Loesch H.v. Die Kölner Kaufmannsgilde. S. 36; Ennen E. Die europӓische Stadt. S. 108. Данные о происхождении купцов приводятся в: Doren A. Untersuchungen zur Geschichte der Kaufmannsgilden des Mittelalters. Leipzig, 1893. S. 205f.
[101]Об Authentica «Habita» см.: StelzerW. Zum Scholarenprivileg Friedrich Barbarossas//Deutsches Archiv. 1978. Bd. 34. S. 123-165 (S. 165). Cp. также: Carmen de gestis Frederici I. imperatoris in Lombardia//MGH SSRM. 1965. S. 16-18. В этом тексте есть свидетельство о возникающих перед чужаками проблемах, связанных с ответственностью за долги. Подробнее см.: Stelzer W. Op. cit. S. 163f.
[102]См., например: Roger von Hoveden. Chronica/Stubbs W. (Hg.). London, 1871. Bd. 4. S. 120; грамота Филиппа II Августа от 1200 г. Или Людовика IX от 1229 г. (Н. Denifle, Ае. Chatelain (Ed.). Chartularium universitatis Parisiensis. P. 53 (№1), P. 120 (№ 66)).
[103]Н. Denifle, Ае. Chatelain (Ed.). Chartularium universitatis Parisiensis. P. 67 (№ 8). Post G. Parisian Masters as a Corporation 1200-1246//Idem. Studies in Medieval Legal Thought. Princeton, 1964. P. 27-60 (P. 34f.); Michaud-Quantin P. Universitas. P. 265.
[104]H. Denifle, Ae. Chatelain (Ed.). Chartularium universitatis Parisiensis. P. 75. № 16. Подробнее об этом: Cobban A. B. The Medieval Universities: their development and organization. London, 1975. P. 81 f.
[105]H. Denifle, Ae. Chatelain (Ed.). Chartularium universitatis Parisiensis. P. 98. № 41. Cp.: Michaud-Quantin P. Universitas. P. 244. Аналогично запрету звонить в колокол (см. примеч. 46) здесь упомянут запрет использования печати (Р. 302).
[106]Буллы Гонория III от 27 мая 1217 г. и от 6 апреля 1220 г. приведены в: Rashdall Н. The Universities of Europe in the Middle Ages. Oxford, 1936. Vol. 1. P. 585 ff.; Rossi G. «Universitas Scholarum» e commune//Studi e Memorie per la storia dell’ Università di Bologna. Nuova Serie. 1956. Vol. 1. P. 173-266 (P. 195s.)
[107]Michaud-Quantin P. Universitas. P. 268; Boehm L. Libertas scholastica und negotium scholare//Universitas und Gelehrtenstand 1400-1800. Limburg a. Lahn, 1970. P. 15-61.
[108]Например, в таких фундаментальных работах, как: Gierke О. Das deutsche Genossenschaftsrecht; Coomaert É. Les ghildes médiévales.
[109]Moraw P. Zur Sozialgeschichte der deutschen Universitӓt im Spӓten Mittelalter//Giessener Universitӓtsblӓtter. Moyen Age. 1975. Bd. 8 (2). S. 44-60 (S. 55 f.).
[110] Sprandel R. Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter. Paderborn, 1975. S. 244 f.; Verger J. Les universites au moyen âge. Paris, 1973. P. 28, 36. Часто studium и universitas – совершенно разнородные элементы процесса возникновения «университетов» – недостаточно четко различаются историками, как показывают дискуссии об отношениях между кафедральной школой и университетом в Париже. См., напр.: Cobban А.В. The Medieval Universities. Р. 78.
[111]Wieacker F. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Göttingen, 1967. S. 45 ff.
[112]Этот аспект справедливо акцентируется в работе: Classen Р. Die Hohen Schulen und die Gesellschaft im 12. Jahrhundert//Archiv für Kulturgeschichte. 1966. Bd. 48. S. 155-180.
[113]Auglhon М. Pénitents et Francs-Maçons de l’ancienne Provence. Paris, 1968; Köstlin K. Gilden in Schleswig-Holstein; Amtmann R. Die Buβbruderschaften in Frankreich//Arbeiten aus dem Seminar für Völkerkunde der Johann Wolfgang Goethe-Universitӓt Frankfurt am Main. Wiesbaden, 1977. Bd. 7.
[114]Brentano L. Die Arbeitergilden der Gegenwart. Leipzig, 1871-1872. 2 Bde.; Coomaert É. Les compagnonnages en France du moyen àge à nos jours. Paris, 1966; Fröhlich S. Die soziale Sicherung bei Zünften und Gesellenverbӓnden. Berlin, 1976; Köstlin К. Gilden in Schleswig-Holstein. S. 212 ff.; Соnzе W. Sozialgeschichte 1800-1850 // Handwörterbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Stuttgart, 1976. Bd. 2. S. 426-494 (470 ff.); Faust H. Geschichte der Genossenschaftsbewegung. Frankfurt a. M., 1977.
[115]Schieder W. Art. «Brüderlichkeit»//Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart, 1972. Bd. 1. S. 552-581 (Zit. s. 552, 554, 559).
[116]Cp.: Le Bras G. Les confréries chrétiennes. P. 444.
[117]Nipperdey Th. Verein als soziale Struktur in Deutschland im spӓten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur Modemisierung//Idem. Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gӧttingen, 1976. S. 174-205 (178 f.).
[118]Ebd. S. 180.
[119]Bayer Н. Zur Soziologie des mittelalterlichen Individualisierungsprozesses. Ein Beitrag zu einer wirklichkeitsbezogenen Geistesgeschichte//Archiv fur Kulturgeschichte. 1976. Bd. 58. S. 115-153.
[120]Ebd. S. 115, 118 ff.
[121]Ebd. S. 120, 118.
[122]Ebd. S. 120, 126.
[123]Ebd. S. 142.
[124]Seidmayer M. Das Mittelalter. Gottingen, 1967. S. 8 f.
[125]В этой связи особенное воздействие имели высказанные Якобом Буркхардтом идеи, характеризующие развитие индивида в эпоху Ренессанса, которое принципиально отличается от мышления в Средние века со свойственными ему «религиозной верой, детской робостью и заблуждениями» (Burckhardt J. Die Kultur der Renaissance in Italien//Idem. Gesammelte Werke. Darmstadt, 1955. S. 89). Об истории воздействия этих идей см.: Schmid К. Über das Verhӓltnis von Person und Gemeinschaft im Früheren Mittelalter // Frühmittelalterliche Studien. 1967. Bd. 1. S. 225-249 (S. 237 f.).
[126]Riedel M. Art. «Gesellschaft, Gemeinschaft»//Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart, 1975. S. 801-862 (S. 828 f.).
[127]Tӧnnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. Stuttgart, 1887. О воздействии книги Ф. Тённиса см.: Riedel М. Op. cit. S. 854 f.; Geiger Th. Art. «Gemeinschaft»//Handwӧrtebuch der Soziologie / A.Vierkandt (Hg.). Stuttgart, 1931. S. 173-180 (S. 175 f.); Pleβner H. Grenzen der Gemeinschaft. Bonn, 1924.
[128]Об этом написал уже в 1931 г. Отто Хинтце: Hintze О. Weltgeschichtliche Bedingungen der Reprӓsentativvrfassung//Idem. Gesammelte Abhandlungen. Gӧttingen, 1970. Bd. 1. S. 140-185 (S. 163 f.).
[129]Обе эти схемы встречаются в отчетливом виде в воззрениях на современные гильдии. См. об этом предисловие к упоминаемой выше книге К. Кёстлина (Kӧstlin К. Gilden in Schleswig-Holstein).
[130]О гильдиях как о явлении специфически западном высказывались еще О. Хинтце и М. Вебер (Hintze О. Op. cit. S. 163; WeberМ. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 431 ff.).
[131]Weber М. Gesammelte Aufsӓtze zur Religionssoziologie. Tübingen, 1920. Bd. 1.S. 1.
[132]Brunner O. Das Problem einer europӓischen Sozialgeschichte // Idem. Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Gӧttingen, 1968. S. 80-102 (S. 85).
[133]Bordone К, Rigaudiére A. Kommune//Lexikon des Mittelalters. 1991. Bd. 5. Sp. 1285, 1287; Cp. с высказыванием К. Шульца в его работе о восстаниях коммун и возникновении бюргерства: «Поскольку они столь свободолюбивы…» (Schulz К. Kommunale Aufstӓnde und Entstehung des europӓischen Bürgertums im Hochmittelalter. Darmstadt, 1992. S. 5).
[134]Schulz K. Kommunale Aufstӓnde. S. 5.
[135]Ebd. S. 11 ff; EnnenE. Die europӓische Stadt des Mittelalters. Gottingen, 1975. S. 105 ff.
[136]Schulz К Kommunale Aufstӓnde. S. 12 f.
[137]Ibid. S. 13; Cp. также с исследованием о коммунах Северной Франции: Vermeesch A. Essai sur les origines et la signification de la commune dans le Nord de la France (XI-е et XII-е siècles). Heule, 1966, – которое Шульц считает наиболее последовательно придерживающимся «теории Божьего мира». Однако его мне ние ошибочно, поскольку А. Фермееш аргументированно отклоняет (С. 175) высказанный в 1927 г. Л. фон Винтерфельд тезис о том, что коммуна была институтом движения Божьего мира.
[138]Schulz К. Kommunale Aufstande. S. 13
[139]Reynolds S. Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300. Oxford, 1986. P. 155. С точки зрения истории исторической науки здесь весьма интересна параллель с исследованиями и дискуссиями о возникновении крестьянской общины, которое связывается с появлением и распространением деревень («Verdorfung») и одновременно с факторами «феодального господства»: «К факторам, которые играли роль в образовании общины, относятся как соответствующая форма старого землевладения, так и одновременное влияние развивающихся городов, которые благодаря их функции социального образца для крестьян и рынка как для крестьян, так и для их господ требовали новых экономических ориентиров и предлагали их. Произошли, наконец, и коренные преобразования в сфере власти: с одной стороны, в отношениях между королем и государством, а также между королем и территориальными князьями, с другой стороны, из прежней аристократии и возвышающихся министериалов выросла новая знать. Эти преобразования привели к усилению власти землевладельцев – с замками как видимыми знаками господства, возведенными трудом крепостных. <…> Родословная “крестьянской общины” в Германии в этом смысле восходит к началу XII в.».
(WunderH. Die bӓuerliche Gemeinde in Deutschland. Gottingen, 1986. S. 34-35).
Подобным образом рассуждает и В. Рёзенер, который, с одной стороны, редуцирует общину до «деревенской общины» и, с другой стороны, признает власть на землю и соседство как факторы, первостепенные для ее образования: «От свойственного старому землевладению объединения вокруг поместья (Fronhofsverband) к позднейшей деревне вели многие связующие линии. Деревенский суд во многих местностях вырос из вотчинного суда эпохи раннесредневекового землевладения, в то время как прежние задачи управления поместьем перенял общинный староста. Корни деревенского товарищества высокого Средневековья уходят также в раннесредневековые социальные формы соседства. Соседство в целом образовывало важнейшую основу для развития крестьянской общинной жизни, а также было главным элементом крестьянской жизни в развитой деревне позднего Средневековья. В зависимости от расселения – отдельными дворами или деревнями – интенсивность соседских отношений между крестьянами возрастала от относительно независимой жизни рядом друг с другом до тесных социальных связей» (Rösener W. Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und lӓndliche Gesellschaft im Mittelalter. München, 1992. S. 28). Как видим, эти воззрения несут сильный отпечаток истории структур управления и хозяйства, поскольку социальная кооперация выводится из одной только необходимости «хозяйственного освоения пахот» ных угодий», «совместног о использования пастбищ», а также «уплотнения расселения».
[140]К. Шульц выискивает то новое, что прорывается в коммунальном движении – в «публичности», в дискуссиях вокруг «легитимации господства также и на городском уровне», в «требовании широкого политического самоопределения» и в «обретении прав личной свободы в ходе коммунального процесса» (Schulz К. Kommunale Aufstӓnde. S. 15 f.).
[141]Vermeesch A. Essai sur les origines et la signification de la commune dans le Nord de la France; Ditcher G. Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Aalen, 1967.
[142]Определение см. в: Oexle O.G. Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter. Ein Beitrag zum Problem der sozialgeschichtlichen Kontinuitӓt zwischen Antike und Mittelalter/B. Schwineköper (Hg.). Gilden und Zünfte. Kaufmӓnnische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter. Sigmaringen, 1985. S. 151-214 (S. 156 f.).
[143]Об этом подробнее см.: Oexte O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit/H. Jankuhn u.a. (Hg.). Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Teil I: Historische und rechtshistorische Beitrӓge und Untersuchungen zur Frühgeschichte der Gilde. Göttingen, 1981. S. 284-354 (S. 294 f.).
[144]Hobsbawm E.J. Sozialrebellen. Gieβen, 1979. S. 197 ff.
[145]Oexle O.G. Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter. S. 157 ff.
[146]Le Roman de Rou de Wace/A.J. Holden (Hg.). Paris, 1970. T. I. P. 191-196. Об авторе см.: G. Hasenohr, M. Zink (Hg.). Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age. Paris, 1992. P. 1498 f.
[147]Понятие «Willkür», «gewillkürtes Recht» следует понимать в духе М. Вебера как относящееся к группе особое право. Подробнее см.: Oexle O.G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft: Tönnies, Simmel, Dürkheim und Max Weber/Ch. Meier (Hg.). Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter. München, 1994. S. 115-159 (S. 148 ff). О consuetude/voluntas в противоположность lex см.: Oexle O.G. Die Kaufmannsgilde von Tiel/H. Jankuhn, E. Ebel (Hg.). Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühhistorischen Zeit in Mittel- und Nordeupora. Teil VI: Organisationsformen der Kaufmannsvereinigungen in der Spӓtantike und im frühen Mittelalter. Göttingen, 1989. S. 173-196 (S. 187 ff).
[148]Ср: Vers 947: La ситипе remest atant, / n’en firent puis vilain atant.
[149]Cp: Reiter I. (Art.) Representation/A. Erler, E. Kaufmann (Hg.). Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte. Berlin, 1990. Bd. 4. Sp. 904-911.
[150]Köhn R. Freiheit als Forderung und Ziel bӓuerlichen Widerstandes (Mittel- und Westeuropa, 11-13.Jahrhundert)/J. Fried (Hg.). Die abendlandische Freiheit von 10. Zum 14 Jahrhundert. Die Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europӓischen Vergleich. Sigmaringen, 1991. S. 325-387 (S. 370, 373).
[151]Ср. содержащийся в упомянутой работе вывод: «Безумным и в глазах Васа обреченным на неудачу это предприятие было с самого начала: собрания, речи, решения, клятвы, избранники – все это должно быть ситипе, клятвенным союзом, общиной. Поскольку планировался переворот, отказ от подчинения, выдвигалось требование равенства, как будто действовали не крестьяне, а политически амбициозные горожане» (Ebd.). Однако я не могу согласиться с мнением Р. Кена, будто бы автор «высмеивал шутовское предприятие» нормандских крестьян.
[152]G. Busson, A. Ledru (Hg.). Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium. Le Mans, 1901. P. 374 f.; Nogent Guibert de. Autobiographic / E.-R. Labande (Ed.). Paris, 1981. P. 316. (Cap. III.: 7, 8).
[153]Ph. Godding, J. Pycke (Ed.) La paix de Valenciennes de 1114. Commentaire et édition critique/Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. 1979. Vol. 29. P. 1-142.
[154]См.: G. Busson, A. Ledru (Hg.). Actus pontificum Cenomannis. P. 377. Подробно события, связанные с коммуной в Ле Мане, анализируются автором в отдельной работе: Эксле О. Г. «Поэтому они составили заговор, который назвали коммуной». Коммуна Ле Мана 1070 года // Homo Historicus. К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного / М. А. Бойцов, О. Ю.Бессмертная и др. (Ред.). М., 2003. Т. 2. С. 56-64 (прим. пер.).
[155]Nogent Guibert de. Autobiographie. P. 316, 320 (Cap. Ill: 7).
[156]Cp.: Michaud-Quantin P. Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen-âge latin. Paris, 1970. P. 147, 156.
[157]Это относится также к понятиям fratemitas и caritas: они могут обозначать как саму группу, так и убеждения тех, кто в этой группе объединился.
[158]Ср., например, в Лаоне в 1112 г.: ecce per urbem tumultus increpuit ‘Communiam’ inclamantium (Nogent Guibert de. Autobiographie. P. 336 (Cap. III: 8)).
[159]Michaud-Quantin P. Universitas. P. 160.
[160]Nogent Guibert de. Autobiographic. P. 320 (Cap. III: 7).
[161]В пользу этого мнения говорят также и другие высказывания Васа из его «Roman de Rou»: Bennet M. Poetry as History? The «Roman de Rou» of Wace as a source for the Norman conques //Anglo-Norman Studies. 1982. T. 5. P. 21-39.
[162]Köhn R. Freiheit als Forderung und Ziel bӓuerlichen Widerstandes. S. 373.
[163]Wilhelm von Jumièges. Gesta Normannorum ducum. V. 2 / J. Marx (Ed). Rouen; Paris, 1914. P. 73. Об авторе и его труде см.: van Houts Е.М.С. «The Gesta normannorum Ducum»: A History without an End//Anglo-Norman Studies. 1980. T. 3. P. 106-118; G. Hasenohr, M. Zink (Hg.). Dictionnaire des lettres françaises. P.625 f.
[164]См. работы, указанные в примеч. 157.
[165]Об этом подробнее см.: Oexle O. G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit. S. 284-354.
[166]Dilcher G. Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. S. 158.
[167]Oexle О. G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit. S. 306.
[168]Ebd. S. 307.
[169]Ebd. S. 304 f.
[170]Ebd. S. 349.
[171]Oexle O.G. Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter. S. 186.
[172]Oexle O. G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit. S. 348 f; Idem. Die Kaufmannsgilde von Tiel.
[173]Об этой проблеме подробно: Oexle O.G. Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der Model ne//Blӓtter für deutsche Landesgeschichte. 1982. Bd. 118. S. 1-44.
[174]Oexle O. G. Alteuropӓische Voraussetzungen des Bildungsbürgertums – Universitӓten, Gelehrte und Studierte/W. Conze, J. Kocka (Hg.). Bildungsbürgcrtum im 19. Jahrhundert. Teil I: Bildungssystem und Professionalisierung in internationalen Vergleichen. Stuttgart, 1985. S. 29-78 (S. 30ff); Reininghauss W. Die Entstehung der Gesellengilden im Spӓtmittelalter. Wiesbaden, 1981; Meyer-Holz U. Collegia Judicum. Über die Formen sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufsjuristen im Oberitalien des spӓten Mittelalters, mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris. Baden-Baden, 1989.
[175]Oexle O. G. Die Kultur der Rebellion / M.Th. Fögen (Hg.). Ordnung und Aufruhr im Mittelaker. Frankfurt a. M., 1995. S. 119-137.
[176]Понятие «культура» трактуется здесь по работам: Berger P. L. Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischen Theorie. Frankfurt a. M., 1973. S. 3 IT.; Berger P. L., Luckmann T. Die gesellschaftliche Ronstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a. M., 1969.
[177]Oexle O.G. Die Kultur der Rebellion. S. 131 ff.
[178]Подробнее об этом см.: Oexle O. G. Deutungsschemata der sozialen Wirklichkeit im frühen und hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Wissens / F. Graus (Hg.). Mentalitӓten in Geschichte. Methodische und inhaltliche Probleme. Sigmaringen, 1987. S. 65-117.
[179]Oexle O. G. Friede durch Verschwörung/J. Fried (Hg.). Trӓger und Instrumentarien des Friedens im Mittelalter. Siegmaringen, 1996. S. 115-150.
[180]Esders S. Zur Bedeutung und Function des Eides in der Zeit des Übergangs von der Antike zum Mittelalter. Überlegungen und Studien am Beispiel der Merovingerzeit. Göttingen, 1997.
[181]Oexle O. G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft. S. 153 ff.
[182]WeberM. Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe. Tübingen, 1972. 5. Aufl. S. 401 f.
[183]Köhn R. Freiheit als Forderung und Ziel bӓuerlichen Widerstandes. S. 378 ff.
[184]Oexle O. G. Die Kultur der Rebellion. S. 126 ff.
[185]Ruser K. Die Talgemeinden des Valcamonica, des Frignano, der Leventina und des Blenio und die Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft/H. Maurer (Hg.). Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich. Sigmaringen, 1987. S. 117-151.
[186]Köhn R. Freiheit als Forderung und Ziel bӓuerlichen Widerstandcs. S. 325 ff. Однако здесь это исследование, как и в других случаях, слишком занято предполагаемыми целями данного «восстания», а именно так называемым требованием «свободы», как критически высказывается и сам Кён, без действительного учета «формы» также и этого объединения в общества. Об этом недостатке см. также: Blickle Р. Bӓuerliche Erhebungen im spӓtmittelalterlichen Deutschen Reich (1979), переиздано: Idem. Studien zur geschichtlichen Bedeutung des deutschen Bauernstande. Stuttgart; New York, 1989. S. 109-132 (S. 123 ff.). Петер Бликле констатирует, что «без общины нет никакого крестьянского мятежа» (S. 123). Это утверждение верно не только применительно к XIV и XV вв. Существенные элементы позднесредневекового «коммунализма», как метко определяет этот феномен Бликле, с его специфическими особенностями, как, например, институциональные формы (общее собрание, суд), общественными обоснованиями (позитивная оценка физического труда) и нормативными формами выражения (раx) встречаются уже в раннее и высокое Средневековье (Blickle Р. Kommunalismus. Begriffsbildung in heuristischer Absicht/Idem. (Hg.). Landgemeinde und Stadtgemeinde in Mittelcuropa. Ein struktureller Vergleich. München, 1991. S. 5-38). He случайно, что схема толкования средневековой социальной действительности, содержащая позитивную оценку труда, именно крестьянского, появляется около 1000 г. См. об этом: Oexle O. G. Deutungsschemata der sozialen Wirklichkeit im frühen und hohen Mittelalter. S. 89 ff.
[187]Blikle P. Friede und Verfassung. Voraussetungen und Folgen der Eidgenossenschaft von 1291/Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft (Jubilӓumsschrift, 700 Jahre Eidgenossenschaft). Bd. 1: Verfassung – Kirche – Kunst. Olten, 1991. S. 13-202.
[188]Критику разнообразных «германских» теорий происхождения гильдии, ни одна из которых данными источников не подтверждается, см.: Oexle O. G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit. S. 312 f. (особенно c. 333 и след.).
[189]Oexle O. G. Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter. S. 165 ff., 191 ff., 195ff.
[190]Ebd. S. 207 ff.
[191] Esders S. Zur Bedeutung und Eunktion des Eides.
[192]Критические замечания по этому вопросу подробно высказаны в: Angenendt A. Das Frühmittelalter. Die abendlӓndische Christenheit von 400 bis 900. Stuttgart; Berlin; Köln. 1990. S. 43 ff.
[193]Oexle О. G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittclalterlichen Gesellschaft. S. 119 ff.
[194]Новая версия этой проблемы представлена у А. Я. Гуревича (Gurjewitsch A. J. Das Individuum im europӓischen Mittelalter. München, 1994), показавшего, что индивидуализм документирован, в частности, поэзией исландских и норвежских скальдов в высокое Средневековье (S. 33ff). Он пишет также по поводу московской дискуссии «Индивид и личность в истории» (1988), что во всех интерпретациях личности и индивидуальности среди историков царит разноголосица, употребление самих этих понятий «логически не вызрело» (S. 313). В дискуссии об индивидуальности речь идет о том, чтобы уяснить причины этой ситуации и прежде всяких новых дискуссий выявить на материале источников предпосылки современной постановки вопроса о возникновении индивидуальности в Средние века, т.е. расхожие толкования самого Средневековья в XIX и XX вв. Подробнее об этом см.: Оехle O. G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft. А также примеч. 190.
[195]Оехle О. G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft. S. 132 ff.
[196]О теоретической подоплеке этой проблемы см.: Oexle O. G. Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung // Frühmittelalterliche Studien. 1990. Bd. 24. S. 1-22; Idem. Das entzweite Mittelalter / G. Althoff (Hg.). Die Deutschen und ihr Mittelalter. Darmstadt, 1992. S. 7-28; 168-177; Idem. Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne. Mittelalterbeschwörungen in der Weimarer Republik und danach//Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift fur Frantischek Graus. Sigmaringen, 1992. S. 125-153.
[197]Oexle O. G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft. S. 132 ff.
[198]Этот вопрос был заново поднят Шульцем (Schulz К. Kommunale Aufstӓnde.), однако без учега ответа на него Макса Вебера. Последствия незнания трудов Вебера немецкими медиевистами, в частности его работы «Город», обсуждаются в: Oexle O. G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft. S. 142, 156ff.
[199]См. его публикацию в томе: Р. Blickle (Hg.). Theorien kommunaler Ordnung in Europa. München, 1996.
[200]Cp.: Taeschner F. Zünfte und Bruderschaften im Islam. Texte zur Geschichte der Futuwwa. Zurich; München, 1979.
[201]Так называемые «цехи» в Византии являли собой учрежденные императором под его надзором корпорации для бесперебойного обеспечения византийского государства. См.: Ostrogorsky G. Geschichte des bysantinischen Staates. München, 1979. 3. Aufl. S. 210 f.
[202]Blickle P. Unruhen in der stӓndischen Gesellsaft 1300-1800. München, 1988; Idem. J. Kunisch (Hg.). Kommunalisierung und Christianisierung. Voraussetzungenund Folgen der Reformation 1400-1600. Berlin, 1989; P. Blickle (Hg.). Landgemeinde und Stadtgemeinde in Mitteleuropa. Ein struktureller Vergleich. München, 1991.
[203]См. работы, указанные в примeч. 168 и 203. Можно только сожалеть, что связь этих феноменов часто остается без должной оценки или отвергается как не имеющая принципиального значения, например, в монографии: Vincent С. Les confréries médiévales dans le royaume de France. XII-е – XV-e siècles. Paris, 1994.
[204]Oexle O. G. Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. S. 40ff.
[205]Полемику О. Г. Эксле с историками Нового времени Т. Ниппердаем и О. Данном по поводу союзов в эпоху Современности см.: Ebd. S. 43 f.
[206]См. его публикацию в томе: Р. Blickle (Hg.). Theorien kommunaler Ordnung in Europa.
[207]Oexle O. G. Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem.
[208]Об этом подробнее см.: Becker M. В. Aspects of Lay Piety in Early Renaissance Florence / C. Trinkaus, H. A. Oberman (Ed.). The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Ranaissance Religion. Leiden, 1974. P. 177-199; Bicard С. T. Ritual in Florence: Adolescence and Salvation in the Renaissance // Ebd. P. 200-264; Roncière Ch.M. de la. Les confréries a Florence et dans son contado aux XIV-e – XV-e siècles//Le mouvement confraternel au Moyen Age. France, Italie, Suisse. Genève, 1987. P. 297-342.
[209]Black A. Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to the present. Ithaca; New York, 1984. P, 129.
[210]Oexle O. G. Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. S. 17 ff.
[211]Black A. Guilds and Civil Society. P. 202 ff.
[212]Oexle O. G. Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. S.19 ff.
[213]Ebd. S. 28ff.; Idem. Otto von Gierkes «Rechtsgeschichte der deutschen Cenossenschaft». Ein Versuch wissenschaftsgeschichtlicher Rekapitulation/N. Hammerstein (Hg.). Deutsche Geschichtswissenschaft urn 1900. Stuttgait, 1988. S. 193-217 (S. 209f.); Idem. Ein politischer Historiker: Georg von Below (1858-1927) // Ebd. S. 283-312.
[214]Oexle O. G. Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppcn in der mittelalterlichen Gesellschaft.
[215]Ebd. S. 132 ff.
[216]Ebd. S. 142 ff.