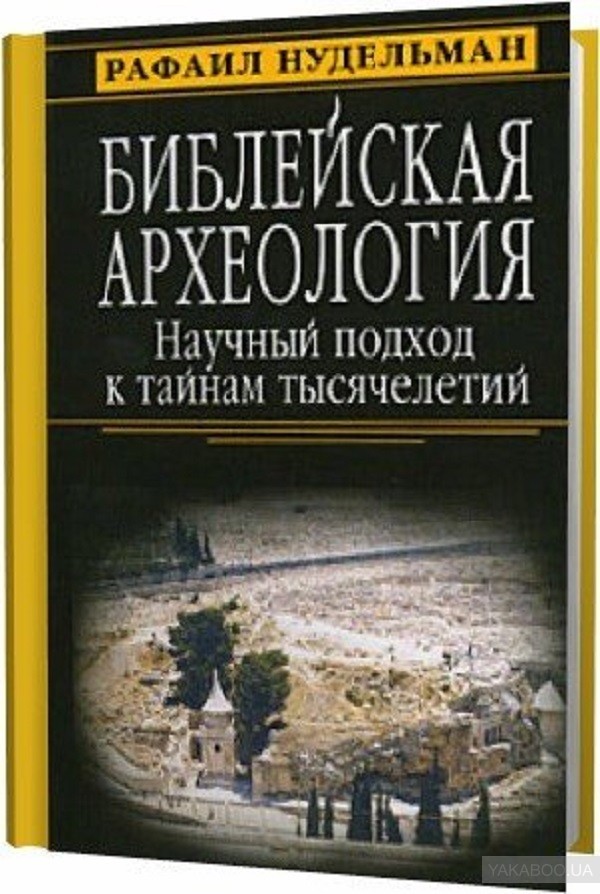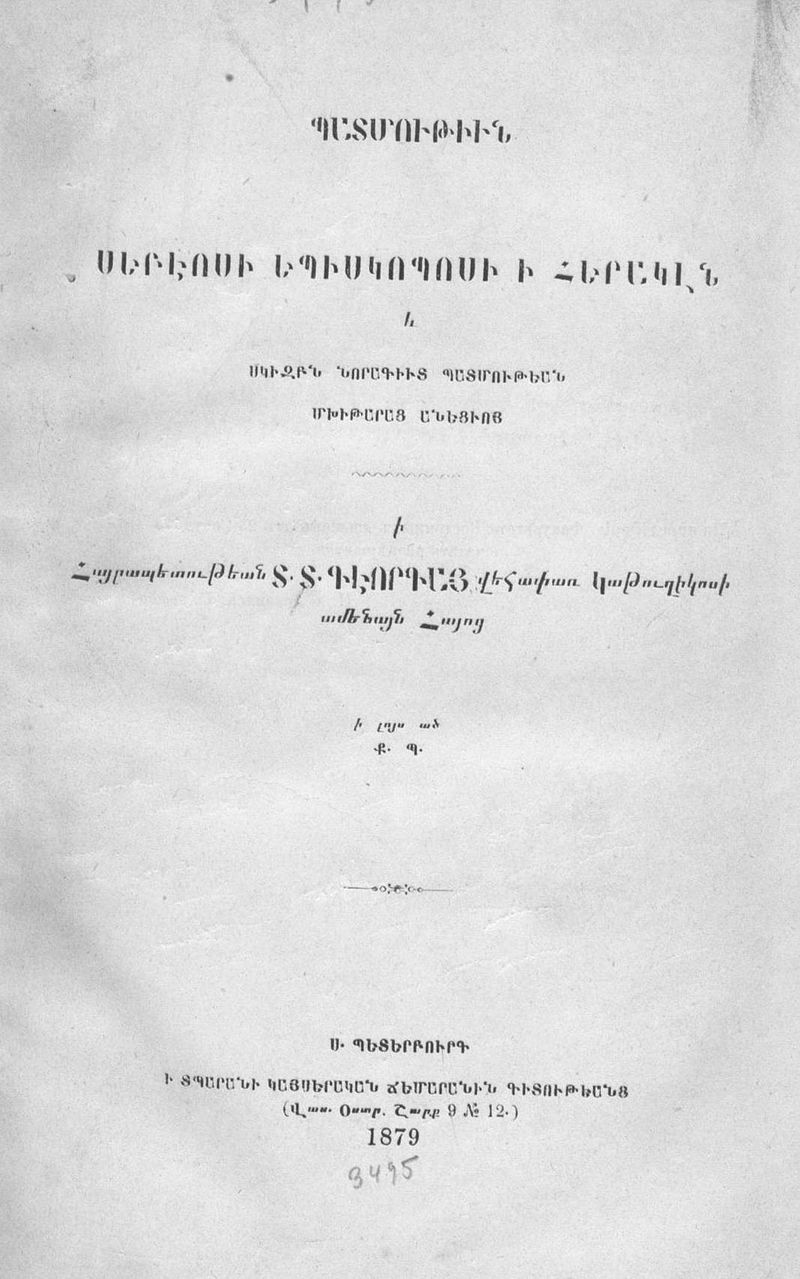Мудрецы песчаных пустынь
Некоторое время назад в газете «Нью ЙоркТаймс» была опубликована статья американского журналиста Александра Штилле под заглавием «Ученые изучают происхождение Корана».
В ней говорилось, что события 11 сентября 2001 года и последовавшие за ними привлекли внимание ученых к фундаментальным основам ислама, запечатленным в Коране. Однако исследование этой книги и истории ее становления оказалось далеко не безопасным занятием. Жестокая расправа (кто не помнит историю Салмана Рушди, коему был вынесен смертный приговор!) грозит всякому, кто усомнится в словах этой книги, которую, согласно мусульманской традиции, сам Аллах продиктовал Магомету через архангела Габриэля. Штилле рассказывает о недавнем исследовании немецкого ученого Кристофа Люксенберга
— оно никак не могло найти издателей. Немецкие издательства страшились опубликовать эту работу, хотя в ней всего лишь утверждалось, что текст Корана на протяжении столетий читался, интерпретировался, а потому и переписывался с определенными ошибками. Не удивительно, сетует газета, что Коран до сих пор не изучен как следует, в отличие, например, от фундаментальных текстов иудаизма. Существуют лишь редкие попытки таких исследований, говорится в заключение статьи, и в качестве примера таковых приводится весьма краткое изложение гипотезы американских ученых Кроне и Кука.
Александр Штилле не вполне прав. Конечно, свободно изучать Коран опасно. Но тем не менее смельчаки находятся, и сегодня в отношении истории Корана и самого ислама уже предложено несколько оригинальных и увлекающих воображение научных гипотез. Думается, читателям будет небезынтересно ознакомиться с этими новыми идеями.
Известно, что ранний ислам сформировался под сильным влиянием иудаизма, занесенного в Аравию переселившимися сюда в начале новой эры евреями: например, аравийский город Ятриб (он же Медина) населяли целых три еврейские общины, что сыграло не последнюю роль, в решении бежавшего из Мекки Мухаммеда переселиться именно сюда — пророк рассчитывал заключить союз с иудеями.
Из иудаизма ислам заимствовал учение о едином Боге и многое другое, причем это заимствование происходило весьма легко, поскольку лежало в русле уже существовавшей издавна традиции, согласно которой арабы, как и евреи, происходят от праотца Авраама («первым арабом» считается Ишмаэль, сын Агари, наложницы Авраама; не случайно один из мифов современного исламского антисемитизма гласит, что Завет был заключен Богом не с евреями, а с арабами, ибо это произошло после рождения Ишмаэля, но до рождения Ицхака). [«Завет с евреями», впрочем, тоже миф, но уже религиозный. Прим.публикатора]
Хорошо известно также, что в дальнейшем Мухаммед решительно повернулся против евреев, и весь Коран пронизан призывами к их истреблению
(«И скажет куст: о мусульманин, о Абдалла! За мной скрывается еврей — приди и убей его!»).
Иногда это объясняется отказом ятрибских евреев принять ислам, но английский историк-арабист Бернард Льюис считает попросту, что
«евреи Медины играли роль балансира между двумя враждующими арабскими общинами и поэтому были ненавидимы обеими».
Мухаммед, по Льюису, видел свое призвание в объединении арабов, а евреев считал главной помехой такому объединению. Однако ненависть к евреям не утихла и после арабского объединения под знаменем ислама. И чуть ли не первым делом самого Мухаммеда, а потом его преемников стала подготовка похода на Палестину (она была захвачена халифом Омаром в 638–640 годах). Историки до сих пор спорят о военно-стратегических целях этого похода, но именно неясность таких целей заставляет думать, что Мухаммед попросту завещал своим преемникам подсечь самые корни иудаизма, отняв у него «землю праотцев» и превратив ее в «землю ислама». Некоторые историки поэтому полагают, что в основе этой неукротимой ненависти лежало непримиримое, не на жизнь, а на смерть, религиозное соперничество, вроде того, которое породило яростный антисемитизм раннего христианства.
Но в эпоху раннего ислама евреи давно уже не представляли собой того сильного конкурента, каким они были в отношении раннего христианства во времена Римской империи. Тут явно скрыта какая-то тайна, разгадка которой требует отказа от устоявшихся представлений и выдвижения альтернативных гипотез. Оказывается, их существует даже несколько.
Одна из них предлагает присмотреться к религиозным особенностям раннего ислама. Он действительно заимствовал у иудаизма весьма многое: не только монотеизм и ряд важных деталей вроде запрета на родственные браки, пищевых запретов и т. д., но даже порой такие тонкости, на основании которых некоторые специалисты утверждают, что Мухаммед был знаком с определенными, специфически еврейскими (т. н. «мидрашистскими») толкованиями Торы. Но, кроме того, в исламе есть и христианские элементы. Само по себе это не так уж странно — всякая более поздняя религия складывается на основе заимствований из предшествующих.
Странность в том, что и иудейские, и христианские заимствования в исламе, по мнению тех же специалистов, отражают воздействие не вполне ортодоксального иудаизма и не вполне ортодоксального христианства, а, скорее, влияние каких-то сект или даже ересей. Так, изнурительные и долгие мусульманские посты ближе к уставам ранних христианских аскетических монастырей, чем к более позднему византийскому христианству, а апокалиптические описания Страшного суда, который, по Мухаммеду, может наступить «в течение двух мгновений», ближе к представлениям кумранской общины евреев, чем к традиции иерусалимской ортодоксии. В то же время резкие нападки Мухаммеда на ростовщиков и запрет на ростовщичество напоминают определенные черты караимской ереси в иудаизме. Наконец, в раннем исламе с его идеей «цепи пророков», последним из которых является Мухаммед, можно увидеть и черты т. н. гностической ереси: именно такую идею провозглашали гностики-«элказаиты», секта которых сложилась около 100 года н. э. в Сирии, а затем — наследовавшая им и куда более известная секта манихейцев.
На основании всех этих наблюдений выдающийся знаток раннего христианства Гарнак выдвинул весьма нетривиальную гипотезу, согласно которой
«ислам является переделкой еврейской религии на арабской почве — переделкой, произошедшей после того, как сама еврейская религия была переделана гностическим иудео-христианством».
По Гарнаку, учителями Мухаммеда были не еврейские раввины или христианские священники, а иудео-христианские сектанты-гностики. Именно под влиянием гностицизма, считает он, Мухаммед не принял ни иудейского, ни христианского Бога, а провозгласил своего Всевышнего — Аллаха. Но другие ученые считают, что это утверждение Гарнака неубедительно. Аллах — божество из очень древнего арабского пантеона. Среди 360-ти статуй богов и богинь, стоявших в доисламской Каабе, одна была посвящена Аллаху. Мухаммед просто возвысил этого племенного божка до ранга единственного Бога. Кроме того, в исламе нет многих важнейших признаков гностицизма.
Исходя из этого, шведский исследователь Тор Андре, оппонент Гарнака, предложил другую альтернативу канонической мусульманской версии происхождения ислама. По его мнению, ранняя проповедь Мухаммеда выдает близкое знакомство с идеями монастырского христианства. Не исключено, говорит Андре, что во время своих торговых скитаний по Южной Аравии и Синайскому полуострову Мухаммед мог побывать в тамошних монастырях, познакомиться с их уставами и подпасть под очарование их сурового, скромного быта. Андре не отрицает, что Мухаммед испытал также влияние еврейской мысли, но считает, что еврейские наслоения играют в исламе вторичную роль. Свое утверждение Андре пытался доказать путем сопоставления ранних и поздних сур Корана, ранней проповеди Мухаммеда и его религиозных реформ в последние годы жизни.
Но в гипотезе Андре есть слишком много слабых мест. Достаточно упомянуть (это сделал еврейский историк Гойтейн), что имя Иисуса встречается в Коране всего четыре раза, а имя Моисея — около ста раз. Образ Моисея как первого религиозного учителя в исламской «цепи пророков» буквально пронизывает ранний ислам. На его приоритет в создании монотеизма ссылается и сам Мухаммед:
«Ибо до этой книги (Корана. — Р.Н.) была книга Моисея (Тора. — Р.Н.)». Это тем более удивительно, говорит Гойтейн, что слова. Мухаммеда сказаны уже в талмудическую эпоху, когда в самом иудаизме Моисей рассматривался вовсе не как «первый в цепи Пророков», а как «первый в цепи Закона». Кто же это в ту эпоху мог внушить Мухаммеду такое неортодоксальное представление о Моисее и такое уважение к нему? — спрашивает Гойтейн.
И отвечает собственной, еще более нетривиальной гипотезой. Он выдвигает смелое предположение, что среди еврейских сект, во множестве возникших в иудаизме на переломе эпох, существовала и неведомая нам секта «Последователей Моисея», или «Бней-Моше». Возможно, она возникла, говорит Гойтейн, как реакция на ортодоксальный иудаизм, как своего рода попытка возврата к «старому учению». Исследования текста Торы уже давно показали, что в иудаизме все время шла подспудная борьба между священниками Храма, пытавшимися «поднять» роль Аарона, прародителя левитов, в ущерб авторитету и значению Моисея.
В таком случае секта «Бней-Моше» могла возникнуть в продолжение этих давних споров. С другой стороны, она могла появиться как Противовес возникшим тогда же протохристианским общинам, также отходившим от господствовавшей иудейской ортодоксии, но в противоположную сторону. Как бы то ни было, секта эта, полагает Гойтейн, видимо, бежала из Палестины во время Иудейской войны и последующей разрухи. Но не скрылась, как Кумранская община, на берегах Мертвого моря, а бежала намного дальше — в самую Аравию. Такое предположение подтверждается тем, что первые упоминания о появлении евреев в Аравии датируются именно началом новой эры.
Впоследствии, конечно, в Аравию бежали и другие еврейские общины — как из самой Палестины, так и из Византии и Персии. Но это уже, скорее всего, были вполне ортодоксальные иудеи. Поэтому община, «Бней-Моше», рассуждает Гойтейн, должна была оказаться среди них своего рода изгоем. Подобно караимам, община эта признавала, видимо, только «учение Моисея», то есть Тору, но не Талмуд. Но существовало и различие — в то время как караимы признавали только Письменную Тору и отвергали Устный Закон, члены секты «Бней-Моше», скорее всего, признавали только Устную Тору. Не исключено, что за долгие века обособленного существования в Аравии секта могла набраться и других еретических взглядов, в том числе и гностических. Будет только правдоподобным считать, что в поисках союзников и покровителей лидеры секты «Бней-Моше» искали контактов с арабами — и, среди прочего, также с арабскими бродячими пророками, взыскующими новых духовных горизонтов и потому открытыми для прозелитизма.
Таинственность, гонимость уединенного еврейского племени, почитаемая им величественная фигура древнего пророка, его религиозное учение, которое «Последователи Моше» противопоставляли более позднему, «испорченному» раввинами иудаизму, — все это могло произвести резкое и неизгладимое впечатление на экзальтированного арабского юношу Мухаммеда и запасть ему в душу так глубоко, что впоследствии отразилось и в его собственной проповеди и религиозном учении. Не на этих ли первых своих духовных учителей, спрашивает Гойтейн, намекал много позже сам Мухаммед в седьмой суре Корана:
«Среди последователей Моисея (евреев. — Р.Н.) есть одно племя, которое выше всех в своем следовании Истине и судит в соответствии с ней»?
Интереснейшая гипотеза Гойтейна позволяет вполне непринужденно объяснить и последующую резкую вражду Мухаммеда с основными еврейскими общинами Аравии. Ведь то были ортодоксальные общины. Учение секты «Бней-Моше», да еще в обработке арабского пророка, действительно могло показаться этим еврейским ортодоксам «карикатурой на иудаизм». Более того, оно могло показаться им нетерпимой ересью — ведь оно отрицало Письменную Тору. Со своей стороны, Мухаммеду могла показаться крайне узкой и догматичной, а главное — непримиримо враждебной его взглядам их ортодоксально-раввинистическая доктрина.
Недаром он объявил ее «порчей Истины», «позднейшим извращением». В таком случае, говорит Гойтейн, преследование пророком мединских евреев следовало бы рассматривать как своего рода «религиозную войну» со всей присущей таким войнам беспощадностью. И тут в развитии этой гипотезы возникает соблазн истолковать и последующее стремление Мухаммеда завоевать Палестину как продолжение все той же «религиозной войны» — вроде состоявшихся много позже крестовых походов во имя «освобождения Гроба Господня» от «неверных». Но ведь в Палестине к тому времени евреев практически уже не было — ни ортодоксальных, ни «последователей Моше». От кого же — или для кого — Мухаммед завещал ее «освободить»?.
На этот ключевой для данной темы вопрос ответили новые участники заочного спора вокруг раннего ислама и происхождения Корана. Ими были американские исследователи Патришия Кроне из Института высших исследований в Принстоне и Майкл Кук из Принстонского университета, оба — выходцы из школы ориентальных и африканских исследований в Лондоне. Их гипотеза буквально взорвала все прежние представления о генезисе ислама и его основополагающей книги. То была крайне дерзкая гипотеза.
Хиждра потомков Агари
Патришия Кроне закончила в свое время лондонскую Школу восточных и африканских исследований, а свою докторскую диссертацию «Агаризм, или Становление исламского мира» защитила в молодом возрасте в 50-е годы. Но произведенный ею в этой диссертации переворот в представлениях об истории ислама был настолько решительным и вызвал такую бурю, что отдельной книгой (в расширенном виде) она вышла только в 1977 году — как уже сказано, в соавторстве с профессором Принстонского университета (и тоже выпускником Школы восточных и африканских исследований) Майклом Куком. Книга вышла в издательстве Кембриджского университета. Престижное издательство не случайно опубликовало диссертацию Кроне — к тому времени бывшая аспирантка вошла в число ведущих ориенталистов мира, стала профессором известного принстонского Института высших исследований и автором целого ряда глубоких и всеми признанных работ по истории раннего ислама.

Ибрагим, приносящий в жертву своего сына Исмаила, и Ибрагим, брошенный в огонь Нимвродом. Рисунок из рукописи 16 века Zubdat Al-Tawarikh.
Открывая книгу Кроне и Кука (а ее стоит открыть, это без преувеличений увлекательное, даже захватывающее чтение), мы оказываемся в абсолютно незнакомом мире: меняются не только порядок и иерархия уже знакомых нам событий, но и сам их смысл. Нам как будто рассказывают совершенно другую историю, хотя и с теми же самыми героями. Разумеется, это опять Мухаммед и евреи — кто же еще? Видимо, исламу никуда не деться от евреев. Но мы словно смотрим на них иными глазами.
Кроне действительно смотрит на историю «Становления исламского мира» (как называлась ее диссертация) глазами тех свидетелей, показания которых прежде всегда оставались в тени. До нее история раннего ислама изучалась преимущественно со слов самих мусульман, то есть по арабским источникам. Кроне же утверждает, что с таким же успехом можно изучать историю раннего христианства, пользуясь только показаниями Евангелий. Дело в том, что исследования последних лет выявили совершенно неожиданное обстоятельство. Оказывается, все арабские хроники, описывающие эпоху раннего ислама, созданы на самом деле много позже, чем происходили описываемые в них события (та же ситуация, как известно, имеет место во многих книгах еврейской Библии, т. н. ТАНАХа). Что еще более удивительно — в ранних арабских источниках нет никаких указаний на существования самого Корана — в какой бы то ни было форме.
Их нет вплоть до конца VII века н. э., когда Мухаммед был давно уже мертв! Как пишет английский историк Джон Вансброу, первые цитаты из Корана (в виде надписей) появляются лишь в 691 году (на стенах иерусалимской «Мечети на скале»), причем эти цитаты явно отличаются от тех же мест в нынешнем тексте Корана, который передается из столетия в столетие. Это означает, что в VII веке Коран еще только складывался. Точно так же установлено, что многое из того, что сегодня называется «ранним исламом», то есть нынешний рассказ о жизни и. поучениях самого Мухаммеда, основано на текстах, которые сложились через сто с лишним, а то и триста лет после смерти самого пророка (аналогичная ситуация, хотя и с несколько меньшим временным разрывом, характерна, как известно, и для христианства).
Выходит, вся история становления ислама и Корана, как она описывается в использовавшихся учеными ранних арабских источниках, является в действительности весьма сомнительной. Но в таком случае, говорят Кроне и Кук, следует обратиться к свидетельствам других народов — тех, которые в ту пору окружали арабов. Легко понять, что это означает радикальную смену угла зрения: до сих пор мы смотрели на историю ислама глазами арабов, теперь попробуем взглянуть на нее же глазами их соседей. И тут нас подстерегает неожиданность — картина оказывается радикально иной.
Какой же именно? Вот один из таких новых документов, найденных Патришией Кроне. Это отрывок из греческого (византийского) текста «Доктрина Яакова», созданного, по всей видимости, около 630 года в Палестине. Палестинский еврей Авраам сообщает своим единоплеменникам, живущим в Карфагене, поразительную весть:
«Лжепророк появился среди сарацинов. Он пророчит приход Избранного (здесь в тексте стоит греческое слово, означающее Мессию), который придет вслед за ним. Я, Авраам, спросил ученого человека: «Рабби, что ты думаешь о пророке, который явился среди сарацинов?» «Он лжепророк, — ответил рабби со вздохом. — Разве пророки приходят с мечом и на колеснице?» Я стал расспрашивать, и те, кто его встречал, сказали: «В нем нет правды, в этом пророке, одно кровопролитие. Ибо он говорит, что держит ключи от Рая, а этого не может быть»».
В этом отрывке, говорит Кроне, содержится, во-первых, указание на доктрину «ключей от Рая», которая действительно существовала в доисламской арабской традиции, но с приходом ислама была объявлена еретической; поэтому можно думать, что данный текст был составлен раньше, чем произошло окончательное формирование ислама. Во-вторых, о пророке здесь говорится как о еще живом человеке. В-третьих, и это главное; он изображен как человек, объявляющий себя предшественником Мессии. Иными словами, ядром его учения является еврейский мессианизм в арабском исполнении. Это весьма неожиданно — ведь в Коране нет никаких следов мессианства. Тем не менее сказанное в «Доктрине Яакова» находит подтверждение в другом — и независимом — документе: в еврейском апокалиптическом тексте «Тайна рабби Шимона бар Иохая».
Он был написан в середине VII века и содержит следующий рассказ о вторжении арабов в Палестину:
«И увидел он приход царей Ишмаэля и возопил: «Мало нам было царей Эдома, так теперь еще и цари Ишмаэля?!» Тогда Метатрон, повелитель воинств, ответил ему и сказал: «Не страшись, ибо Всевышний, да будет Он благословен, избрал у них пророка по воле Своей и привел его покорить землю твою, дабы возродить ее в величии ее». И он спросил: «Как нам знать, что это наше избавление?» И ответил: «Не сказано ли у Исайи: «И увидел всадников на верблюдах…» и так далее? Когда пройдет всадник на верблюде, придет за ним всадник на осле и создаст царство. И будет царство сие избавлением Израиля, ибо подобно оно Спасителю, приходящему на осле»».
«Спаситель, приходящий на осле»,
— конечно, Мессия. Те считаные евреи, которые жили тогда в Палестине, вполне могли видеть в арабских всадниках своих избавителей от византийской власти. Но любопытно, что автор текста включает в традиционное еврейское описание прихода Мессии еще и появление арабского пророка на верблюде в качестве его предшественника. Евреи вряд ли отвели бы «сыну Ишмаэля» такую роль, это могло прийти только из арабских источников. И в них действительно есть тому косвенное подтверждение: калиф Омар именуется там «аль-Фарук», что означает как раз «Избавитель», причем утверждается, что это прозвище дал ему сам Мухаммед.
[«Прочитал в Букнике про Старика Хоттабыча, на коий вышел чрез Аснат. Удивился, что автор не приводит абсолютно прозрачную этимологию его имени. Это отсылка к Омару ибн Хаттабу, освободителю Иерусалима, желавшему восстановить Храм СОЛОМОНА. Но НЕ восстановил, и ПОСЕМУ джинн остался в бутылке, до лучших, советских, времен, когда не будут нужны евреям храмы и шаббесы. Кстати, в одном университетском израильском туалете (М) есть надпись на русском языке ХАТТАБЫЧ, и это правильная орфография. Ашкеназ Гинзбург привык думать, что всюду О».
via siegmund_kafka]
Разумеется, арабы начисто отрицают, будто Омар призван был избавить евреев. Но если Мухаммед (как вроде бы следует из текста «Доктрины Яакова») считал себя предшественником Мессии, то прозвище, которое он дал Омару, этому самому выдающемуся из своих преемников, выглядит весьма знаменательно. Может быть, евреи Палестины (в отличие от христиан) не случайно так тепло встречали Омара? Может быть, есть смысл прислушаться и к армянским источникам того времени, в которых сообщается, что при Омаре правителем Иерусалима был назначен некий — еврей? Если свести все эти рассеянные детали воедино, — говорит Кроне, — то вырисовывается неожиданная картина: вместо привычной ненависти между арабами и евреями, между мусульманами и иудеями возникает впечатление близости одинаковых мессианских чаяний и надежд.
Воображение противится этой непривычной картине, но Кроне привлекает на помощь еще один текст — первый армянский документ, в котором упоминается Магомет. Это т. н. «Хроника епископа Себеоса». В ней рассказывается о бегстве группы евреев из захваченного византийцами в 628 году персидского города Эдесса:
«И они ушли в пустыню и пришли в Аравию и искали помощи у детей Измаила, объяснив им, что они их родственники по Библии. И хотя многие готовы были признать это родство, евреи не могли убедить большинство, ибо у тех были другие верования. И был в то время измаильтянин по имени Мехмет, купец, и он предстал перед ними как глашатай истины, и научил их путям Авраамова Бога, ибо он хорошо знал Его пути и хорошо знал историю Моисея. И было ему веление объединить их всех под одним человеком и одним законом, который Бог открыл Аврааму. И сказал им: «Господь обещал эту землю Аврааму и его потомству, поэтому пойдем и возьмем эту землю, которую Господь дал нашему отцу Аврааму». И они все собрались и вышли из пустыни, как из Египта, и разделились на двенадцать колен, и впереди каждого колена шла тысяча израильтян, дабы показать им путь в Землю Израиля. И все. евреи по пути присоединялись к ним, и стала у них великая армия, и они послали к греческому императору, и сказали ему, что эта земля принадлежит им по наследству их праотца Авраама».
Разумеется, в этом тексте немало преувеличений и анахронизмов, но нарисованная в нем картина арабо-еврейских союзнических отношений неожиданно подтверждается еще одним документом — на сей раз арабским! Он называется «Конституция Медины», и в нем, вопреки каноническим рассказам об истреблении Мухаммедом мединских евреев, говорится, что эти евреи, напротив, вошли в одну общину с мусульманами и были поровну распределены между арабскими племенами, — а ведь именно о таком распределении («тысяча евреев при каждом арабском колене») и говорит «Хроника епископа Себеоса». Причем эта «Конституция Медины» — несомненно, древний документ, ибо более поздние арабские источники настойчиво пытаются убедить, что вражда между евреями и арабами возникла почти сразу после прибытия Мухаммеда в город; тем больше, говорит Кроне, оснований верить более раннему источнику.
Попробуем теперь собрать воедино все свидетельства, приведенные Кроне и Куком, — к чему это все ведет, что означает?
Мусульмане в поисках ислама
Означает это, что еврейские, армянские, христианские и, наконец, арабские источники, впервые введенные в оборот Патришией Кроне, рисуют совершенно новую картину арабо-еврейских отношений во времена деятельности Мухаммеда и становления ислама, нежели та, какую изображают более поздние, религиозно и политически ангажированные исламские источники. Действительно, если собрать воедино все «свидетельства соседей», приведенные Кроне и ее соавтором Куком, то перед нами возникнет довольно стройная и связная, хотя и крайне непривычная схема. Если же еще поверить этой схеме, то окажется следующее. Поначалу главным стремлением первых мусульман было мессианское, «еврейского типа» стремление отвоевать Обетованную землю — для себя и своих сородичей по Аврааму, своих религиозных учителей-евреев, и именно поэтому Мухаммед провозгласил себя «предшественником Мессии» (отведя роль самого Мессии-Избавителя своему преемнику Омару).
Евреи, по Кроне, не только приняли эту мессианскую затею с воодушевлением, но, возможно, сами и были ее первыми вдохновителями. Не они ли нашептали Мухаммеду, что он является продолжателем дела Моисея и что ему, как и самому Моисею, «суждено вывести свой народ из пустыни» (только в данном случае не из Синайской, а из Аравийской!) в Землю обетованную, т. е. совершить своеобразный «арабский Исход»?
Но если план завоевания Палестины под водительством Мухаммеда действительно был такой вот религиозно-мистической попыткой повторения еврейского Исхода из Египта под водительством Моисея, то нельзя ли найти следы этого в ранних исламских источниках? И Кроне находит эти следы после того, как задается странным на первый взгляд вопросом: как могли называть себя эти первые последователи Мухаммеда? Ну, разумеется, не «новыми евреями», отвечает она, но и, во всяком случае, не «мусульманами», ибо это слово впервые появляется только в упомянутой нами ранее надписи в иерусалимской «Мечети на скале», а эта мечеть была сооружена лишь в 691 году. Зато в греческом папирусе 642 года и в некоторых сирийских источниках того же времени первые последователи Мохаммеда именуются странным словом «магаритаи», или «магараи», соответствием чему в арабском языке является слово «мухаджруг», означающее тех, кто принимал участие в «хиджре». «Хиджра» же обычно переводится как «исход» и, согласно каноническому исламскому толкованию, означает именно исход, или бегство, Мухаммеда с первыми последователями (этими самыми «мухаджрун») из Мекки в Медину.
Но «мухаджрун», подмечает Кроне, имеет и еще одно значение: оно переводится также как «агаритяне», то есть потомки Агари, матери Ишмаэля. Любопытно при этом, что более древним является именно это второе значение, ибо ни слово «хиджра», ни сам рассказ о бегстве Мухаммеда из Мекки в Медину не упоминаются в ранних исламских источниках. Как это понять? И тут Кроне выдвигает смелое предположение: может быть, этих упоминаний нет потому, что поначалу никакой «хиджры» на самом деле и не было. А была группа религиозных единомышленников, называвших себя «мухаджрун», или «агаритяне», потомки Агари, которые задумали совершить Исход из Аравийской пустыни в Землю обетованную, завещанную Господом их праотцу-Аврааму, в полном подобии древнему Исходу своих сородичей-евреев из Синайской пустыни в ту же Землю обетованную праотца Авраама (только, как уже сказано, под водительством Моисея, а не Мухаммеда).
И лишь много позже составители исламского канона, желая скрыть следы этого Исхода, задним числом придумали легенду, будто Исход агаритян был всего-навсего бегством Мухаммеда и его единомышленников из Мекки в Медину, а чтобы объяснить, почему участники этого «бегства» называли себя «мухаджрун», объявили, что «мухаджрун» — это производное от слова «хиджра», которым было якобы прозвано упомянутое событие, будто бы положившее начало превращению арабов в мусульман.
«В этой игре слов, — считает Кроне, — как раз и состояло самое раннее зерно той веры, которая впоследствии превратилась в ислам».
По ее мнению, далее с новорожденным «агаризмом» произошло примерно то же, что произошло с ранним христианством, в котором нашелся апостол Павел, круто повернувший новое учение, ранее ютившееся на обочине иудаизма, к другой, намного более широкой аудитории — с известными и судьбоносными историческими последствиями. Агаритяне тоже отвернулись от евреев, и агаризм тоже переименовал себя, став исламом, только мусульмане, в отличие от христиан, принялись расширять число приверженцев ислама не словом, а мечом. Не случайно вторая часть работы Кроне и Кука так и называется: «Агаризм без иудаизма».
Вот как, на взгляд авторов, происходило становление ислама. Войдя в заветную Палестину, агаритяне с удивлением обнаружили, что основную часть ее населения составляют не евреи, а христиане, и это побудило их произвести переоценку приоритетов. По утверждению упомянутого епископа Себеоса, вскоре между евреями и арабами вспыхнул первый конфликт: евреи требовали, как и положено, в мессианские времена, тотчас приступить к восстановлению Храма, арабы, вместо этого, начали строить свою «Мечеть на скале». Одновременно они, в точном соответствии с предписаниями «реальной политики», стали сближаться с более многочисленными христианами: уже в 650 году калиф Муавия молился на Голгофе, в Гефсиманском саду, у могилы Девы Марии. Впрочем, так утверждает епископ Себеос, сам христианин, но вот и в письме некого Яакова из Эдессы тоже сообщается, что
«агаритяне признают Иисуса подлинным Мессией».
Затем появляются данные и о сближении агаритян с палестинскими самаритянами, этими давними конкурентами иудеев в Палестине. Самаритяне, как и христиане, признавали основные принципы «Моисеевой веры», первоначально разделявшиеся также вторгшимися в страну агаритянами, и, стало быть, на этой основе можно было создать более широкий и сильный религиозно-политический союз. И вот этот-то переход от союза с евреями к союзу с христианами и самаритянами имел, по мнению Кроне, решающее значение для агаритян. Мало того, что такой союз освободил их от привязки к «Мессии из дома Давидова», т. е. к еврейскому Мессии (который в Моисеевом Пятикнижии, кстати говоря, не упоминался), — он позволил им наконец создать и собственную национальную религию.
«Использовав веру Авраама для утверждения и определения себя, — пишет Кроне, — агаритяне взяли затем на вооружение христианский мессианизм, чтобы подчеркнуть, кем они не являются (евреями. — Р.Н.), и, наконец, заимствовали у самаритян доверие к одному только. Пятикнижию, чтобы выработать собственную религиозную доктрину».
Соответственно была переосмыслена и роль Мухаммеда: в религиозном сознании поздних агаритян он стал превращаться из «предшественника Мессии» в последнего в «цепи пророков», начатой Моисеем, т. е. в глашатая новой религии, а затем — возможно, под влиянием все тех же самаритян, он превратился в глашатая совершенно нового Закона, уже не Моисеева, записанного в Пятикнижии, а своего собственного, записанного в Коране (сложившемся, как и Пятикнижие, много позже описанных в нем событий). Тогда-то это новое учение и получило собственное название — ислам. Кроне считает, что и тут проявилось влияние самаритян. Слово «аслама» (восхождение) существовало и в иврите, и в арамейском, и в сирийском языках, но только у самаритян оно приобрело значение «покорность Богу». Это и стало самоназванием новой религии. Так «Исход» агаритян в Палестину и столкновение арабов здесь с самаритянами, христианами и евреями привели к становлению ислама как особой новой религии, которая принялась энергично (и насильственно) привлекать все новых, и новых сторонников.
Такова картина складывания раннего ислама и появления Корана, нарисованная Патришией Кроне. При всей своей впечатляющей убедительности и логичности, она тоже не стала последней в ряду гипотез, появившихся на Западе на эту тему. Исследования продолжаются, и гипотезы множатся, но теперь уже — под определенным влиянием работы Кроне. Так, в той же статье Александра Штилле, с которой мы начали наш рассказ, сообщается, как уже упоминалось вначале, о работе немецкого исследователя Люксенберга «Сиро-арамейское прочтение Корана».
Идеи этой работы напрямую примыкают к идеям Патришии Кроне. Люксенберг говорит, что многие трудности понимания Корана связаны с тем, что его рассматривают как чисто арабский текст, тогда как он возник под сильным влиянием арамейского языка, который был в те времена основным для ближневосточных евреев и христиан. Иными словами, поскольку Коран складывался в среде носителей арамейского языка, он не мог не испытать и влияния их религиозных идей в точном соответствии с тем, что утверждает Кроне. В качестве примера такого языкового влияния Люксенберг приводит известное изречение Корана о том, будто на том свете исламских самоубийц ждут девственницы, в тексте — «хур».
Исламская традиция утверждает, что это слово якобы является сокращенной формой «хури», что означает «девственницы», и, соответственно, объясняет этот отрывок своим неграмотным слушателям как обещание сексуальных услад в раю, тогда как на самом деле, говорит Люксенберг, это арамейское «белый изюм», и именно так «хур» переводится в одном весьма уважаемом словаре раннего арабского языка.
Теперь становится понятно, почему книга Люксенберга так долго не могла найти издателей даже в Европе — хранители исламской веры не любят, когда им указывают на сознательное и целенаправленное перетолкование ими священного текста или напоминают, как это сделал в своем романе Салман Рушди, о «запретных сурах». И не только не любят, но и готовы любой ценой подавить такое «кощунство». Даже великого египетского писателя Нагиба Махфуза как-то раз пырнули ножом за то, что одна из его книг кому-то показалась не совсем «правоверной». А человека рангом пониже, палестинского ученого Сулимана Башара, вообще вышвырнули из окна второго этажа — за невинное утверждение, что ислам сформировался постепенно, а не вышел сразу из уст Боговдохновенного пророка. Фанатизм ревнителей Корана сравним разве что с фанатизмом вдохновленных им террористов-самоубийц.
Где уж ученым в таких условиях изучать становление ислама и Корана?! Приходится скорее удивляться тому, что хоть что-то в этом направлении все-таки делается. И совсем даже небезынтересное «что-то». Как мы и пытались показать это в нашем очерке.
Источник Библейская археология.