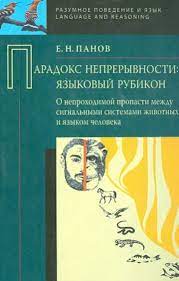Стивен Пинкер, раскрученный популяризатор, а некогда психолингвист, причастен к попытке в 1980е гг. ненаучными средствами дискредитировать опыты по обучению человекообразных обезьян языкам-посредникам, опровергающие представления его и других хомскианцев о врождённости человеческого языка. Согласно им, язык — часть биологии, а не психологии Homo sapiens, его инстинкт, а не двигательный автоматизм — так называлась известная книга Пинкера. Как, впрочем, и автор исходной идеи Ноам Хомский.
***
Содержание
«Появление первых же результатов вызвало волну критики и возражений, в разной степени обоснованных или вовсе не обоснованных. Многие критики исходили из априорного убеждения в том, что никаких предпосылок языка человека у животных нет и быть не может.
Даже отдавая дань этим новым фактам, К. Э. Фабри, например, писал, что «к сожалению, социализация поведения обезьян и биологизация поведения человека дискредитировали опыты А. и Б. Гарднеров, Д. Примэка, Д. М. Рамбо, Т. Гилла, Ф. Паттерсон и других по выявлению коммуникативных способностей антропоидов и возможностей “речевого” общения с ними. 〈…〉 признавая безусловную ценность этих исследований, нельзя упускать из виду, что достигнутые результаты можно толковать не как свидетельство о естественных системах (и возможностях) антропоидов, а лишь как итоги дрессировки с применением к подопытным животным сугубо человеческих, но не их собственных способов коммуникации» (Фабри, 2001, с. 455).
В тот период появилось немало подобных высказываний, в том числе и сделанных в гораздо менее корректной форме. Непримиримыми критиками этих экспериментов оказались и некоторые лингвисты. Главным из них был крупный американский лингвист Н. Хомский, который рассматривал язык, и прежде всего понимание и использование синтаксиса, как проявление уникальной генетически обусловленной способности, свойственной только человеку (см. HOMSKY 1980). Общему скепсису во многом способствовали результаты выполнения еще одного проекта по обучению шимпанзе амслену.
«Проект Ним» и критика «языковых» экспериментов Г.Терресом
В конце 1973 г. начались работы по «Проекту Ним». Психолог Герберт Террес получил детеныша шимпанзе, которого он назвал Ним Чимски «в честь» Ноама Хомского (Noam Chomsky), как одного из главных противников точки зрения о способности обезьян к усвоению простого аналога языка человека. Предполагалось, что Ним подтвердит продемонстрированные Уошо языковые способности, в том числе и то, что «овладение языком человека основано у шимпанзе на понимании грамматики». Таковы были представления Терреса в начале работы, и результаты, как ему первое время казалось, вполне их подтверждали.
Первоначальный его план состоял в том, чтобы исчерпывающим образом продемонстрировать те особенности языкового поведения обезьян, которые другие исследователи наблюдали эпизодически, — прежде всего спонтанную способность соблюдать правильный порядок слов в предложениях, как это свойственно детям. В проекте Терреса в течение четырех лет с Нимом работали свыше 60 учителей жестового языка. Он овладел словарем в более чем 125 знаков и составлял много предложений из двух жестов. Террес вел постоянную видеорегистрацию его «высказываний» и по ходу работы обнаруживал все больше и больше оснований считать их грамматически правильными и сопоставимыми с первыми предложениями ребенка.
Например, если Ним употреблял слово «ЕЩЕ» в комбинации с другим словом, то он ставил его на первое место в 85% случаев, например в выражениях «ЕЩЕ БАНАН» и «ЕЩЕ ПИТЬ». Подобный правильный порядок слов он применял и при употреблении слова «ДАТЬ» (например, «ДАЙ ЯБЛОКО») и других переходных глаголов (например, «ОБНЯТЬ», «ЩЕКОТАТЬ»), если они сочетались со словами «Я (МНЕ)» и «НИМ».
По окончании экспериментов Террес и его сотрудники получили время для более тщательного изучения накопившихся у них видеозаписей двадцати тысяч высказываний Нима. Однако чем больше они изучали эти выражения, тем сильнее ослабевала их уверенность. Сначала Терреса беспокоило, что у Нима не происходит удлинения высказываний — явление, столь естественное и обязательное у детей. Впрочем, иногда Ним произносил и более длинные фразы, но это было только количественное удлинение. Нередко он произносил фразы типа «ДАЙ — АПЕЛЬСИН — МНЕ — ДАЙ — СЪЕСТЬ — АПЕЛЬСИН — МНЕ — СЪЕСТЬ — АПЕЛЬСИН — ДАЙ — МНЕ — СЪЕСТЬ — АПЕЛЬСИН — ДАЙ — МНЕ — ТЫ». Фактически это была почти абракадабра, содержавшая информации не больше, чем обычные двухсловные предложения.
Террес также пришел к выводу, что использование Нимом знаков сосредоточилось только на просьбах о пище или игре. Кроме того, он понял, что Ним ачастую просто «ронял слова», например, «НИМ — МНЕ — БЫСТРЕЕ — ДАЙ — ЕЩЕ», которые лишь придавали вид правильно построенного предложения все тем же простым требованиям «ЕСТЬ» или «ИГРАТЬ».
Однако самым сильным ударом для Терреса оказалось осознание того, что более чем в трех четвертях случаев высказываниям Нима предшествовали слова его учителей, которые он повторял частично или полностью. То, что при общении с животным казалось похожим на грамматически правильный диалог, на видеоэкране выглядело как «зомбиподобное» подражание. По завершении анализа Террес опубликовал в «Science» статью под названием «Может ли обезьяна говорить предложениями?» (TERRACE ET AL . 1979), и ответ на поставленный в заголовке вопрос был ошеломительным: нет!
«Объективный анализ наших данных, наряду с полученными в других исследованиях, не дает доказательств того, что высказывания обезьяны подчинены правилам грамматики, — заключил он. — Последовательность знаков, наблюдаемых у Нима и других обезьян, может напоминать первые многословные высказывания детей. Но если исключить другие объяснения комбинаций знаков обезьянами, в особенности привычку частично имитировать недавние высказывания инструкторов, нет оснований считать эти высказывания предложениями» (с. 899).
Так Г. Террес из энтузиастов изучения этой проблемы превратился в одного из наиболее непримиримых его противников. По его словам, Ним обманул его, создавая своим подражательством иллюзию пользования языком. На самом же деле Г. Террес сам себя обманывал, и причиной была использованная им методика эксперимента. В отличие от других обезьян, Нима содержали в обедненной среде, при весьма ограниченных возможностях общения с кем бы то ни было.
Вся обстановка опытов была такова, что она заставляла Нима именно подражать действиям инструкторов, не побуждая его к употреблению жестов в более широком контексте. И, что самое главное, в отличие от всех остальных исследователей, автор «Проекта Ним» совершенно не озаботился контрольными («слепыми») опытами и предотвращением невольных подсказок со стороны человека. Подражательность высказываний Нима не удивила никого, кроме самого Терреса, — общение с обезьяной велось так, что по существу она получала награду именно за повторение того, что «говорили» тренеры.
Опасность неосознанной подачи невербальных сигналов всегда учитывается грамотными экспериментаторами. С. Сэвидж-Рамбо заметила по этому поводу:
«Я была бы последней, кто станет отрицать, что в некоторых из проектов по изучению языка обезьян имелись случаи невольных подсказок. Шимпанзе — чрезвычайно умные животные и могут уловить самый слабый след одобрения или неодобрения в выражении лица или позе человека. Но отказаться от всех исследований языка обезьян, обвиняя исследователей в подсказках, или предположить, что ученые не могут научными методами исключить возможность таких погрешностей, было бы слишком простым решением» (SAVAGE — RUMBAUGH, LEWIN 1994/2003, с. 52). По словам Р. Футса, и Гарднеры, и он сам (а позднее и Сэвидж-Рамбо в своих работах с шимпанзе и бонобо) с помощью ряда приемов, включая двойной «слепой» контроль, свели к минимуму любую возможность подавать обезьянам какие-либо сигналы-подсказки.
Г. Террес оказался единственным из специалистов, кто не принял хотя бы некоторых предосторожностей, однако это не помешало ему утверждать, что прав он, а все остальные — не правы. Он заявил, что жестикуляция Уошо при покадровом просмотре (т.е. без движения) намного меньше напоминает разговор человека. Это обвинение произвело сильное впечатление на лингвистов, не знакомых с языком жестов. Но жесты, как и речь, это сигналы, длящиеся во времени. Когда вы медленно прокручиваете в обратном направлении запись жестикуляции человека, объясняющегося на знаковом языке, она становится совершенно бессмысленной, совсем так же, как и речь человека при замедленном воспроизведении. При покадровом анализе пленки теряются также и многие нюансы жестового языка, содержащиеся, кроме всего прочего, в движениях глаз, рук и тела говорящего.
Еще одно из возражений критиков было вызвано тем, что Уошо часто прерывала своего собеседника-человека, оно приводилось как доказательство того, что обезьяна не знает, когда вступить в разговор. Террес заявлял, что в отличие от шимпанзе «дети хорошо понимают, когда надо слушать, а когда можно говорить». Действительно, на отдельных видеокадрах Уошо начинала жестикулировать, когда ее собеседник-человек все еще продолжал говорить. Мало искушенный в тонкостях настоящего языка жестов, Террес счел это изъяном в поведении Уошо, однако на самом деле это вполне нормально для языка жестов. Известно, что люди, пользующиеся амсленом, в отличие от обычных говорящих, в процессе диалога «перекрывают» 30% времени высказываний партнера. Причина очевидна: вы можете читать жесты партнера и параллельно жестикулировать, в то время как листы по жестовому языку, которые просматривали видеопленки разговоров с Уошо, прокручиваемые с обычной скоростью, подтвердили, что ее вступление в разговор вполне типично для глухих людей, пользующихся этим языком.
Комментируя эту ситуацию, Р. Футс писал:
«Я не сомневаюсь, что вся критика Терреса была бы сразу же признана несостоятельной, будь она подвергнута нормальному обсуждению со специалистами. Но этого не случилось. Террес выдвигал свои обвинения в популярных средствах массовой информации и быстро стал знаменит среди апологетов Ноама Хомского. Для лингвистов школы, проповедующей “уникальность человека”, Г. Террес оказался воплощенной мечтой. Нашелся исследователь языка обезьян, признавшийся, что был одурачен собственным шимпанзе!» (FOUTS, MILLS 1997/2002, с. 275).
Вместо корректной научной полемики, в СМИ развернулась атака — они с удовольствием подхватили очередной «жареный факт». В результате над всем направлением этих исследований нависла гроза, и оно едва не подверглось разгрому как область науки.
Попытка разгрома : конференция «феномен «умного Ганса»
В мае 1980 г. «оппозиция» с помощью Нью-Йоркской академии наук организовала конференцию под названием «Феномен Умного Ганса: Коммуникация между лошадьми, китами, обезьянами и людьми». Это название отсылало к нашумевшей истории начала ХХ в. (1900—1904). Г. фон Остен, владелец лошадей, убежденный в их огромных умственных способностях, обучал нескольких из них различению цветов, азбуке и счету, включая извлечение квадратного корня. Каждую букву или цифру лошадь обозначала соответствующим числом ударов копыта. Наиболее способным учеником оказался орловский рысак Ганс, который производил достаточно сложные арифметические подсчеты, отвечал на разнообразные вопросы, а иногда «высказывался» по собственной инициативе.
Поведение его было столь впечатляющим, что вводило в заблуждение не только публику, но даже членов специальных комиссий. И лишь много позже один из психологов заметил, что Ганс отвечает только на те вопросы, ответ на которые знает сам тренер. Специальный анализ показал, что животные реагируют на мельчайшие идеомоторные движения человека, например, на отклонения его корпуса на 0,2 мм, микродвижения бровей, мимику и т. п. Даже когда тренер загораживался от лошади картонным щитом, она улавливала какие-то знаки для определения правильного ответа. Таким образом, то, что казалось удивительным проявлением разума, на деле обернулось навыком, приобретенным благодаря длительной и сложной тренировке, умением реагировать на едва уловимые сигналы человека [в популярных книгах Брайана Хейра и Ванессы Вудс показано, что чувствительность к «социальным подсказкам» присуща всем одомашненным видам — включая беляевских ручных лисиц, крыс или норок — и отличает их как от диких предков, так и от обоих видов шимпанзе, хотя те сильно умнее. Прим.публикатора].
История фон Остена оставила заметный след в развитии науки о поведении животных. Она впервые привлекла внимание к проблеме чистоты эксперимента с точки зрения возможности неосознанного влияния экспериментатора на его результаты, и вот, через несколько десятилетий, к ней вернулись снова. По описанию очевидцев, обвинения множества ученых и не ученых состояли в том, что язык обезьян мало чем отличался от упражнений в обмане и самообмане, а вся конференция казалась похожей на сцены из сказки «Алиса в стране чудес». Предполагалось, что она будет посвящена «эффекту Умного Ганса» — обсуждению мер, необходимых для того, чтобы предотвратить невольное влияние экспериментатора на результаты эксперимента, — но, по образному выражению Р. Футса, все присутствующие носились как с писаной торбой с Гербертом Терресом, единственным из исследователей, кто не принял никаких мер для предотвращения такого влияния.
На конференции царила очень тяжелая атмосфера. Казалось, никого не интересовало, как на самом деле шли дела у экспериментаторов. Например, первый же выступающий, Х. Хедигер (Цюрих), заявил, что смешно всерьез считать, будто животное способно осваивать элементы языка человека. Т. Себеок высказал в своем выступлении мысль, что финансирование работ должно быть прекращено и, возможно, распределено между более нужными направлениями, например поисками лекарства от рака. Появились даже желающие (к которым, по счастью, не прислушались) поставить на голосование вопрос о запрете подобных работ. Т. Себеок вместе с Д. Умикер-Себеок распространяли рукопись, в которой резко критиковались исследования поведения обезьян при освоении человеческого языка и содержалась масса подстрекательских материалов.
«Итак, мы установили, что исследователи „языка“ обезьян материально поддерживаются людьми, которые считают, что они действуют согласно с самыми высокими побуждениями, но на самом деле дают втянуть себя в устаревшие цирковые представления»,
— писали они, добавляя, что руководители исследований, конечно, заинтересованы в том, чтобы получать дополнительную финансовую поддержку своих проектов, наряду с признанием в научных кругах и продвижением по службе» (цит. по SAVAGE-RUMBAUGH, LEWIN 1994/2003, с. 50). На заключительной пресс-конференции Т. Себеок выразил свое мнение еще резче:
«По моему убеждению, эти так называемые эксперименты с языком обезьян делятся на три группы: одна — откровенный обман, вторая — самообман, третья — те, что проводил Г. Террес» (с. 50).
[Сейчас так себя ведут отрицатели глобального потепления (климатические дениалисты), вроде г-жи Латыниной и её западных моделей для подражания. Прим.публикатора]
Несмотря на все вопросы репортеров, Себеок уклонился от предоставления каких-либо доказательств обвинений в обмане. Какие бы мотивы ни лежали в основе подобных заявлений, как и предложений голосовать за прекращение этих исследований, едва ли можно считать, что они были продиктованы интересами науки. Возможно, позицию Т. Себеока лучше всего иллюстрирует его ответ репортеру журнала «New Scientist». На вопрос о том, какие доказательства убедят его в том, что у обезьян имеется некая когнитивная основа для усвоения аналогов языка, он ответил:
«Факты меня не убедят. Только теория» (с. 53).
[Увы, люди не ангелы, а учёные – люди, а не идеальные логические машины, коими их трактует попперовский фальсификанизм (поэтому ложный, в отличие скажем, от эволюционной эпистемологии и марксизма, трактующих в этой области примерно одно и то же, но на разном языке). Учёные, как и обычные люди, лучше всего держат в голове самые правдоподобные доводы «за» собственную концепцию и самые «неправдоподобные» — против неё или «за» конкурирующую. Если процесс познания был бы «попперовским», всё было бы наоборот1.
Отсюда избыточная любовь учёных к собственным теориям, доходящая до отторжения всякого нового знания как потенциальной угрозы для них, вместо позитивного восприятия новых данных как источника развития в том числе и любимой теории. Такая зашоренность превращает теорию в колодку познания. Это понятие предложил известный математик В.Н.Тутубалин с соавт (1999, с.67):
«колодка – это надетая на шею деревянная рама, ограничивающая арестанту возможность вертеть головой и полностью разогнуться.
«Колодка, надеваемая, допустим, на шею, должна быть адекватна шее, … в том плане, чтобы не задушить того, чьё поведение нужно лишь скорректировать, но и снять её было нельзя до получения искомого эффекта… «Колода» — это, вообще говоря, часть древесного ствола (как в выражении «пни и колоды» или колода, на которой рубят мясо). Поскольку нельзя же на шею надеть большое бревно, для целей коррекции употреблялись сравнительно небольшие куски бревна, откуда и уменьшительно-ласкательный суффикс «к». Теперь можно объяснить, чем же «колодка» лучше «модели».
Дело в том, что в отношении модели всегда возникает вопрос об ее адекватности тому явлению, которое мы собираемся моделировать, и вопрос этот обычно сложен. В отношении же адекватности колодки можно пойти по пути, который, несомненно, одобрил бы Сократ. Сократ сказал бы, что колодка, надеваемая, скажем, на шею, должна быть адекватна шее, но лишь в том смысле, чтобы не задушить совсем того, чье поведение нужно лишь скорригировать, а при этом нужно, конечно, чтобы ее нельзя было самостоятельно снять с шеи до получения искомого эффекта.
Колодка, надеваемая на ногу, должна быть примерно в таком же смысле адекватна ноге. Никакой более тонкой адекватности от колодок и не требуется. Если угодно кратко, колодка мышления — это модель, не обязательно формализованная, неадекватность которой осознана».
Точно также наше представление, модель соотносятся с представляемой реальностью. Ведь первая цель теоретического представления – получить от Природы воспроизводимые результаты опыта для проверки, подтверждения или коррекции других теорий, обычно более общего характера. Благодаря «колодкам» исследователь «присоединяется» к определённой теории (не наоборот – теория как интеллектуальный конструкт устойчивей, и долговечней своих создателей) и фактически «инвестирует» свой ум и талант в развитие именно данной теории, а не её конкуренток.
Неудивительно, что на рынке идей альтернативные теории конкурируют за наиболее талантливых «развивателей». Поскольку «присоединение» обычно происходит в студенческие годы, то привлекательность «колодок познания» играет здесь важную роль, не меньшую чем влияние Учителя, «представляющего» данную идею лично.
Интеллектуальная активность автора и адепта теории устремляется на развитие теоретического конструкта, «сжато» представленного в «колодке» и (поскольку устремлена и направлена) отсекает сама для себя иные цели и смыслы в анализе той же проблемы. Понимание явлений – лишь вторая цель развития парадигм, моделей, представлений и других теоретических конструкций. Недостаточность собственного понимания осознаётся адептами теории, концептуальной модели отнюдь не сразу, лишь когда привычная колодка начинает «жать». Но сперва «колодка» вызывает искренний энтузиазм. Обретя её, «философ внутри биолога» чувствует, что благодаря «колодке» он в своей профессиональной области становится «хозяином фактов», удивительно приятное чувство! А как писал ещё О.Шпенглер,
«жизнь господствует над разумом… Оставаться хозяевами фактов …существеннее, чем стать рабами идеалов»2.
Колодка фактически — форма аскезы: ограничения, естественного для любой концентрации на трудной задаче, требующей преодолеть сопротивление материала, или среды, или слабости собственного ума. В гносеологическом плане она ограничивает выбор методических средств анализа исследуемой части реальности и концептов, с позиций которых их анализирует данный исследователь, всё это направляет познавательную активность по цели, наиболее соответствующей развиваемым идеям.
Гомологичный пример: при неспособности быстро выбрать товар в супермаркете, или наоборот, чрезмерного шопинга психологи рекомендуют женщинам надеть в магазин туфли на 1-2 размера меньше. Данное неудобство позволяет покупателю направляться точно к нужным товарам, и не останавливаться у других, столь же привлекательных, но ненужных проходить мимо них как можно быстрей.
«Колодка познания» точь-в-точь как жмущие туфли: при очевидности пользы здесь и сейчас не следует носить её постоянно: станешь её рабом вместо использования как когнитивного орудия в своих интересах. В идеале исследователя стоит держать в уме наличное разнообразие «колодок познания», употребляемых в данной конкретной области чтобы менять прежнюю или создавать новые при поступлении новых эмпирических данных, не прикипая душой ни к какой из них, т. е. практиковать плюрализм теоретических конструкций, спасающей от превращения твоего подхода в Учение. Как это прекрасно описано у Умберто Эко в «Имени розы»:
«- Значит, при решении вопросов вы не приходите к единственному верному ответу?
- Адсон, — сказал Вильгельм, — если бы я к нему приходил, я давно бы уже преподавал богословие в Париже.
- В Париже всегда находят правильный ответ?
- Никогда, — сказал Вильгельм. — Но крепко держатся за свои ошибки.
- А вы, — настаивал я с юношеским упрямством, — разве не совершаете ошибок?
- Сплошь и рядом, — отвечал он. — Однако стараюсь, чтоб их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной-единственной».
В этом (лучшем из мыслимых) случае искомую неадекватность колодки осознаёт сам исследователь, почему и может сменить. Куда хуже, он сам этого сделать не может и, наоборот, представляет её достижением, наградой и безусловным удобством, как верный Трезорка гордился новым ошейником. Неадекватность тогда осознаётся другими — например, пишущими эти критические разборы. Прим.публикатора].
Кроме Г. Терреса на конференции присутствовали и другие, гораздо более авторитетные исследователи проблемы усвоения обезьянами аналогов языка человека — широко известный психолог Д. Рамбо и тогда еще начинающий ученый С. Сэвидж-Рамбо.
Их участию в конференции предшествовала публикация статей (SAVAGE-RUMBAUGH ET AL. 1978, 1980), в которых они отвечали на критику Г. Терреса. Данные этих ученых были достаточно весомыми, потому что к тому времени за плечами у них были уже пять лет экспериментов с Шерманом и Остином (см. след. главу). Их работы выявили новый, более высокий уровень языковых способностей шимпанзе. Вместе с тем, они не были слепыми приверженцами данного направления, не замечавшими его сложностей или недостатков. Поработав с Уошо, Люси и Ланой и проанализировав их языковое поведение, Сэвидж-Рамбо выдвигала и собственные претензии к оценке степени их овладения языком. Но это были именно научные конструктивные соображения, способствовавшие дальнейшему углубленному изучению феномена. Они вылились в серию поразительных результатов, о которых мы будем подробно говорить в следующих главах. Однако на конференции они не получили никакого резонанса и заинтересовали присутствующих только потому, что, по мнению присутствующих, свидетельствовали о расколе в стане сторонников языковых способностей шимпанзе. По словам Сэвидж-Рамбо, за ней надолго закрепилась репутация Фомы неверующего.
Конференция завершилась предложением прекратить выделение средств на опыты по языку обезьян и приостановить какие-либо дальнейшие поиски доказательств его существования, подрывающие, по выражению С. Сэвидж-Рамбо, «линию партии Хомского». Средства массовой информации славно потрудились и не поскупились на сенсационные обвинения. По вине Г. Терреса язык обезьян стал жертвой этого специфического американского синдрома, когда СМИ выхватывают и радостно громят явление, заслуживающее, напротив, внимательного изучения.
В самых популярных газетах и еженедельниках одна за другой появлялись статьи, которые упорно доказывали, что усвоение обезьянами языка человека было всего лишь мимолетной фантазией ученых. Следы этой атаки все еще хорошо заметны и теперь, спустя годы и даже десятилетия. Многие так и остались в убеждении, что шимпанзе учатся только механически повторять. Таково мнение Р. Футса, однако всем, кто знаком с историей нашей отечественной науки, этот синдром также хорошо известен. Эта история во многом напоминает ситуацию в СССР в 40—50-е годы прошлого века с ожесточенной борьбой за чистоту павловского учения, за мичуринскую биологию — против вейсманистов-морганистов, против «лженаук» генетики, кибернетики, этологии и мн. др. жесты своих воспитателей.
[я думаю, что ничуть не напоминает. Там это — следствие давления части начальства, сглупа поверившего жуликам, которому сопротивлялись учёные вместе с лучшей частью того же начальства. Здесь это следствие всё возрастающей конкуренции между учёными или школами за паблисити и через него лучшее финансирование, где использование вненаучных средств гарантировано. Поэтому наша беда продолжалась недолго, как только начальство поняло, что доверилось жуликам, и было прекращено самими учёными. В конкурентной науке «свободного общества» такое неустранимо и постоянно прорывается то здесь, то там; правда, и вовсе закрыть какое-то направление тоже не получается. Прим.публикатора].
Они не понимали, что сравнение Нима с Уошо походило на сравнение ребенка Маугли с обычным ребенком, и не заметили работ следующих десятилетий, которые не только опровергли критику Терреса, но в новом объеме и качестве доказали способность шимпанзе усваивать языки-посредники на уровне двухлетнего ребенка. Анализируя эту историю в своей книге, Р. Футс (FOUTS , M ILLS 1997/2002) упоминает, что даже в период ее написания (конец 1990-х годов) некоторые из лингвистов школы Хомского все еще возвращались к «Проекту Ним», как будто он не был подвергнут критике и дискредитирован, как будто не было и нет никаких других исследований. Они по-прежнему утверждают, что жестовый язык у шимпанзе представляет лишь действия хорошо выдрессированного животного, что они используют его не спонтанно, а только под действием муштры и принуждения, что они не вступают в разговор, а только показывают знаками, когда им что-то потребуется.
В свою очередь, С. Сэвидж-Рамбо в одном из интервью, которые она дала в 1998 г., говорит, что многократно приглашала своих оппонентов, в частности Т. Себеока, посетить лабораторию и своими глазами посмотреть на столь активно критикуемый ими феномен. Однако на ее приглашения никто не откликнулся.
Как ни странно, мало известен тот факт, что далеко не все лингвисты занимали такую позицию. Менее сенсационное, но компетентное обсуждение этой проблемы происходило в научных журналах, но попытка привлечь к нему внимание СМИ была обречена на неудачу. Между тем, лингвист Ф. Либерман сделал вывод, что Террес повинен в систематическом искажении работ других исследователей, особенно Гарднеров. Два специалиста по сравнительной психологии, Т. ван Кантфорт и Дж. Римпо, опубликовали обширную статью (50 страниц) «Исследования знакового языка животных», где они детально описали искажения научных данных, допущенные Терресом»
См. З.А.Зорина, А.А.Смирнова «О чём рассказали говорящие обезьяны?». М.: Языки славянских культур, 2006. С.187-195.
***
Сегодня понятно, что это была борьба с новым знанием грязными средствами3, вдвойне неприемлемая для учёного — в отличие от законного скепсиса. Однако С.Пинкер в книге «Язык как инстинкт» бестрепетно воспроизводит доводы 1980-х, ещё тогда опровергнутые другими лингвистами.
«Некорректные нападки на Уошо и других шимпанзе, овладевших амсленом, в 1983 году получили эффективный отпор от другого крупного лингвиста и знатока амслена, У. Стоко (Stokoe, 1983), автора многих фундаментальных работ, включая «Словарь американского жестового языка». Его исследование синтаксиса этого языка привело к признанию амслена одним из полноправных человеческих языков еще в 1960-е гг. Стоко пристально следил за первыми высказываниями Уошо, Мойи и Лулиса, десятки раз просматривал видеопленки жестовых сообщений Уошо и на протяжении десятилетий продолжал внимательно наблюдать за работами, которые вели Гарднеры и Футс.
В статье «Обезьяны, использующие знаки, и их критики, которые этого не делают» (Stokoe, 1983) Стоко писал, что «почти не остается сомнений в том, что шимпанзе обладают хорошо развитыми способностями к знаковому общению». По его мнению, основанием для этого служит тот факт, что они не были поставлены в жесткие рамки дрессировки, специальной выработки условных рефлексов.
«Они усваивали знаковый язык, — говорит Стоко, — точно так же, как и глухие дети глухих родителей, через спонтанное взаимодействие с использующими язык жестов взрослыми людьми» (с. 179).
Позднее поддержку языковым экспериментам оказала П. Гринфилд, которая сотрудничала с С. Сэвидж-Рамбо, и ряд других лингвистов.» (Зорина, Смирнова, op.cit., c.195-196).
«До сих пор в ряде изданий исследователей именуют не иначе как «дрессировщиками», безбожно искажая и описание методики обучения, и достигнутые обезьянами результаты (см., например, [Пинкер 2004: 318—323]). При этом такие критики полностью игнорировали все, что касалось спонтанного овладения знаками и преднамеренного их использования в непрограммируемых ситуациях.
Между тем тенденция к спонтанному усвоению знаков путем подражания людям и другим обезьянам ярко проявилась в языковом поведении бонобо4, с которыми работала Сэвидж-Рамбо [Savage-Rumbaugh, Lewin 1994; SavageRumbaugh et al . 1998; 2006]. С нашей точки зрения ее данные, полученные в опытах на бонобо (сначала Канзи, потом Панбэниша, а теперь еще и ее сын), уже не оставляют места подобным огульным обвинениям и убедительно доказывают возможность спонтанного усвоения знаков путем подражания. Надо отметить, что эти бонобо содержались в условиях, наиболее благоприятных и адекватных для столь высокосоциальных животных, как шимпанзе.
●Условия содержания обезьян этого поколения были еще более обогащенными, чем у их предшественников (большие помещения, много игрушек, телевизор, бытовая техника, которой они активно пользовались, прогулки по лесу, поездки в соседние городки и т. п.). Лаборатория располагалась в центре довольно большой территории, покрытой лесом, и у исследователей была возможность выводить обезьян на далекие прогулки (по 7—8 ч). Практически это была жизнь в лесу, что приближало условия содержания к естественным для этого вида.
● Детеныши с самого раннего возраста постоянно находились в тесном общении с людьми, некоторые имели приемных «матерей».
● Главной особенностью программы было то, что люди постоянно разговаривали при обезьянах, но при этом не проводили специальной дрессировки, не добивались выполнения словесных команд, а лишь создавали для них соответствующую языковую среду, — комментируя все происходящее, четко произносили правильно построенные простые фразы, так что те имели возможность знакомиться со звучащей речью.
● В отличие от большинства своих предшественников, Канзи и следующие детеныши не только росли с собственными матерями-обезьянами (помимо приемных матерей из числа исследователей), но и в адекватном социальном окружении, похожем, хотя бы отчасти, на природные сообщества — несколько обезьян разного возраста, как бонобо, так и обыкновенных шимпанзе. Благодаря этому они получали полноценный опыт внутривидовой коммуникации.
Последнее обстоятельство весьма существенно, поскольку это высокосоциальные животные и, по выражению Р. Йеркса, «один шимпанзе — не шимпанзе».
Бонобо Канзи был первым, кто рос в этих условиях, и результаты не замедлили сказаться. В 1,5 года он впервые проявил понимание звучащих слов, а в 2,5 стал понимать уже целые фразы. В этом же возрасте обнаружилось, что он спонтанно усвоил некоторые знаки йеркиша, просто присутствуя при обучении его матери, которое оказалось совершенно безуспешным. Следует подчеркнуть, что весь этот багаж знаний был усвоен им без использования подкрепления, в отличие от обезьян, учившихся по стандартной методике.
При этом Канзи по собственной инициативе осваивал параллельно две знаковых системы. Только после этого этапа одновременного и самостоятельного приобщения к йеркишу и звучащей речи с Канзи начали специально заниматься, впервые использовав особую клавиатуру. Нажатие каждой клавиши сопровождалось звучащим словом, так что спонтанный «билингвизм» Канзи далее был закреплен с помощью обучения. Характерно, что, помимо специальных занятий с экспериментатором, Канзи очень любил самостоятельно возиться с озвученной клавиатурой, подобно тому, как другие обезьяны разглядывали картинки в книгах и журналах. Во время таких самостоятельных занятий он мог усваивать соответствие лексиграмм и звучащих слов в отсутствие их референтов — предметов, которые они обозначали.
Нужно еще раз подчеркнуть, что первоначальное «приобщение» Канзи и к йеркишу, и к звучащей речи происходило без всякого подкрепления, когда обезьяна просто «называла» какой-то предмет, а не просила его получить и не получала.
Таким образом, спонтанное усвоение элементов языка-посредника отмечено во многих совершенно независимых ситуациях. Оно закономерно (хотя и в разной степени) проявляется у разных обезьян: у Канзи и Панбэниши как базовый спонтанный способ приобщения к йеркишу, а также к пониманию звучащей речи человека; у других «говорящих» обезьян спонтанное усвоение знаков было лишь эпизодом, дополнительным источником расширения лексикона; у детеныша шимпанзе Лулиса, росшего среди нескольких владеющих амсленом шимпанзе, это был основной источник освоения языка, как и у Канзи.
О том, что усвоение языка-посредника путем подражания сородичам представляет собой феномен, действительно типичный для антропоидов, свидетельствуют и наблюдения японских приматологов [Matsuzawa 2002], изучавших использование символов у шимпанзе Аи (см. выше). В апреле 2000 г. у нее родился детеныш по имени Аюму, который постоянно присутствовал при ее обучении выбору по образцу с помощью компьютеризованной установки.
Упомянем, что если обезьяна давала правильный ответ — выбирала прямоугольник, соответствующий по цвету знаку-образцу, она получала подкрепление — монетки в 100 иен, которые она копила и затем с толком использовала в «торговом автомате» для покупки сладостей.
И вот однажды, когда Аюму было около 10 месяцев, он подошел к монитору и ткнул пальчиком в белый круг (сигнал готовности к работе). Поскольку во время всех опытов шла непрерывная видеозапись, экспериментаторы могут документально подтвердить, что это был действительно первый случай, когда Аюму проявил инициативу и принял участие в опыте. Вслед за белым кругом на экране появился иероглиф, обозначающий коричневый цвет. Не прошло и трех секунд, как Аюму прикоснулся к этому знаку, и в верхней части экрана появились стимулы для выбора — розовый и коричневый прямоугольники.
Оказалось, что «правильный» (коричневый) стимул был расположен в самой верхней части монитора, на расстоянии 70 см от пола (рост Аюму в тот момент был около 60 см). Шимпанзенок вытянул левую руку и попытался дотянуться до коричневого прямоугольника, но не смог. Тогда он попробовал совсем распрямить спину, но опять не дотянулся. Лишь с третьей попытки, опершись ногой на полочку перед монитором, Аюму смог добраться до нужного стимула.
Видеозапись ясно демонстрирует, что он пытался достать именно его. Поскольку ответ был правильным, Аюму получил 100-иеновую монетку и с явным удовлетворением стал с нею играть. Таким образом, с первой же попытки Аюму правильно решил задачу, выполнив несколько действий. Тем самым он продемонстрировал способность подражать матери в столь непростой ситуации. Надо сказать, что Аи потребовалось около семи лет, чтобы овладеть всей этой премудростью. Сначала малыш только играл полученными монетками, а через 5 месяцев уже научился «покупать» лакомства в автомате (пока не делая выбора). Еще через несколько месяцев Аюму уже тщательно изучал изображения лакомств и выбирал то, какое ему нужно. К трем годам он полностью освоил все, что умела его мать.
Это позволяет заключить, что языковое поведение антропоидов отвечает одному из важных критериев Ч. Хоккета — оно формируется во многом за счет культурной преемственности. Очевидно, что изложенные факты опровергают гипотезу о «навязанности» и искусственности этого способа общения и показывают, что обезьяны имеют когнитивную основу для овладения знаками-символами («потенциальная психика или «запасной ум» [Северцов 1922]) и успешно реализуют эти возможности, коль скоро такие условия им оказываются доступными….
…В заключение нельзя не сказать и еще об одной стороне языкового поведения говорящих обезьян — возможности понимать синтаксическую структуру речи. Этот аспект данных подробно рассмотрен в нашей книге, здесь я ограничусь самым кратким резюме.
Тенденция комбинировать знаки обнаружилась у амслен-говорящих обезьян после усвоения первых же 8—10 знаков, из которых они начали составлять небольшие «фразы». Сначала это были комбинации из двух, а затем и из трех знаков. Первые «высказывания» Уошо были номинативными («ЭТОТ КЛЮЧ») или содержали описание совершаемых ею действий («Я ОТКРОЮ»).
Следом за ними появились атрибутивные «фразы» («ЧЕРНАЯ СОБАКА», «ТВОЙ БОТИНОК») и, наконец, фразы, описывающие ее собственный «опыт» или ощущения («ЦВЕТОК ПАХНЕТ», «СЛЫШНО СОБАКУ») [Зорина, Смирнова 2006: 148].
Как уже упоминалось, смысл фраз передается в обезьяньем амслене только порядком слов, который соответствует характерному для английской грамматики. И Уошо, и другие обезьяны четко понимали влияние порядка слов на смысл высказывания и адекватно реагировали на фразы, где подлежащее и дополнение менялись местами. Например, когда знаками говорили «Я ЩЕКОТАТЬ ТЕБЯ», обезьяна ждала, что ее будут щекотать. Но когда ей говорили «ТЫ ЩЕКОТАТЬ МЕНЯ», она в свою очередь бросалась щекотать собеседника.
Обезьяны могли соблюдать правильный порядок слов даже в наиболее длинных спонтанных высказываниях, таких как фраза Уошо, выпрашивавшей у Футса сигарету: «РОДЖЕР, ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙ МНЕ ЭТОТ ГОРЯЧИЙ ДЫМ». Материал, собранный при изучении обученных амслену обезьян, иллюстрирует эту способность достаточно убедительно (см. подробнее [Зорина, Смирнова 2006]).
Этот факт был и остается совершенно неприемлемым для лингвистов школы Хомского. Очень показательно высказывание одного из них:
«Факты меня не убедят, только теория».
Но физиологов и психологов убеждают именно факты. Поэтому вопрос о синтаксисе высказываний обезьян прошел тщательную экспериментальную проверку в опытах Сэвидж-Рамбо с бонобо Канзи [Savage-Rumbaugh et al. 1993; 1998; Savage-Rumbaugh, Lewin 1994].
В этих опытах было обнаружено, что бонобо Канзи, с самого раннего возраста воспитывавшийся в обогащенном социальном окружении и постоянно слышавший разговоры людей, спонтанно начал понимать синтаксис звучащей речи. Наряду с фиксацией спонтанных проявлений понимания предложений Сэвидж-Рамбо провела длинную серию специальных экспериментов на 8-летнем Канзи и 2-летней девочке Але. Каждый из них получил более 600 устных заданий разного типа. Вот как выглядели эти тесты, которые проводились с соблюдением всех предосторожностей, исключавших возможность подсказок, заучивания правильных ответов в процессе тестирования или угадывание ответа по контексту.
Примеры заданий, полученных и выполненных Канзи [Savage-Rumbaugh et al. 1993].
6. Do you see the plastic bag?… put the rubber bands in the plastic bag.
39. There is a new ball hiding at Sherman and Austin play yard.
44. Do you see the tape [TV tape]?… can you put it in the hat?
96. Can you take your collar [watch] outdoors?
115. Put the oil on the TV.
138. Can you tickle Laura with the dog?
144. Get the toy gorilla… slap him with the can opener [fork].
99. I want you to put some soap on your ball.
Через несколько дней:
209. I want you to put your ball on some soap.
158. Go outdoors and find the carrot.
Через несколько дней:
300. Find the carrot and put it outdoors.
Эксперименты продолжались около 10 месяцев. Оказалось, что 8-летний шимпанзе Канзи и 2—2,5-летний ребенок в равной степени понимают синтаксис звучащей речи человека. Таким образом, данные, полученные при работе с обезьянами, обученными амслену, получили подтверждение в опытах с шимпанзе, понимающим звучащую речь человека».
Зорина З.А. Возможность диалога между человеком и человекообразной обезьяной: обзор экспериментальных исследований// Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка». М.: Языки славянских культур, 2008. С.135-172.
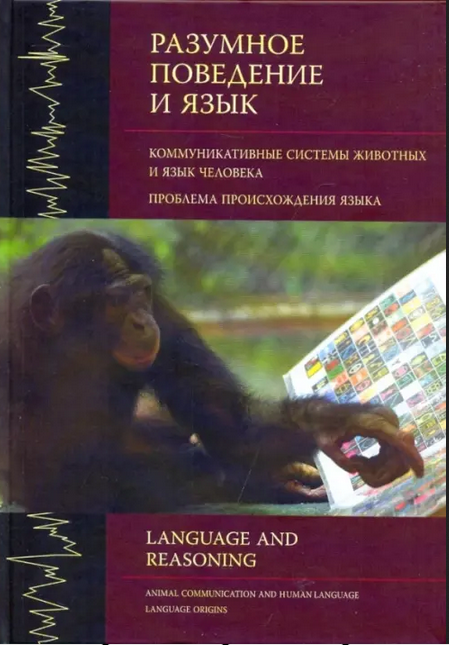 ***
***
Увы, данны приёмы аргументации были усвоены (а, может, повторены независимо) известным российским этологом Е.Н.Пановым и многажды повторены в его книгах, связанных с происхождениями языка — вместе с давно опровергнутыми утверждениями хомскианцев, что language-trained apes не пользуются символическими системами, а язык — «инстинкт человека». Скажем, он прямо дезинформирует читателя, относя У. Стоко и «большинство лингвистов» к «скептикам» (на деле наоборот); молчит обо всех описанных выше погрешностях опытов Террейса, создавая у читателя ложное впечатление оправданности его его скепсиса; о ненаучных приёмах полемики, использованных другими «скептиками» и пр.5
С упорством, заслуживающим лучшего применения, он это повторял и в позднее вышедших книгах6, даже после того как на Круглом столе «Коммуникация человека и животных: Взгляд лингвиста и биолога» (Москва, 2007 г.)7 он слышал доклад З.А. Зориной, рассказывающей всё вышеизложенное, и даже не пробовал ей возразить.
«Откровенный протест лингвистов, широко включившихся в дискуссию, вызывала в первую очередь полная, с их точки зрения, несовместимость самих слов «обезьяна» и «язык». Но в любом случае эта способность оказывается на уровне несрав-ненно более низком, чем тот, что присущ человеку».(«Рубикон…»), С. 354.
На деле, как минимум, они разбираются в синтаксисе, т. е. освоили генеративную грамматику языка, воспроизводимого жестами иди лексиграммами. Для хомскианцев именно это определяет язык как видовой инстинкт Homo sapiens, заставляет предположить его врожденность (не имея ни специальных знаний, ни собственного опыта работы в генетике поведения). Поскольку Е.Н. Панов хомскианец (с. 360) данная фраза в его устах дезинформирует читателя. Другая дезинформация (с.359) связана с повторением лжи из 1980-х про эффект умного Ганса.
«Они словно кожей чувствовали, доволен ли ими воспитатель или нет, и могли догадаться, о чем идет речь, руководствуясь общей ситуацией, жестами и взглядом человека. Именно так они подчинялись таким командам как «Иди сюда!», «Где твоя миска?», «Не хочешь ли погулять?» (здесь очень уместно вспомнить «эффект Умного Ганса»!)».
Крупнейший российский этолог, следящий за литературой по проблематике книги (происхождение языка + его сравнение с сигнальными системами животных), не может не знать, что в отличие от собак, коз, лошадей, свиней и других одомашненных видов или самого человека шимпанзе с бонобо не считывают социальные подсказки хозяев, не устанавливают с ними состояние разделённого внимания, не ищут этих подсказок и не используют их в решении проблемных задач, как орудийных, так и требующих задействования интеллекта или использования символов. Другое дело, что они чётко схватывают, кто из работающих с ними людей муж и жена, какие у них отношения в коллективе, но это маккиавеллиевский интеллект, не имеющий ничего общего с эффектом умного Ганса.
Включение таких замечаний — манипуляция читателем, известная как «производство сомнений», учёного это не красит. Или в лучшем случае это логическая ошибка, известная как подмена тезиса — как объяснение пользуются утверждением, применимость которого к ситуации ещё следует доказать (и оно ещё и оказывается ложным).
Третья дезинформация здесь — умолчание о главных результатах опытов с «говорящими обезьянами», спонтанности освоения предлагавшихся им знаковых систем, как только условия жизни стали адекватными для таких высокосоциальных животных, и понимании синтаксиса человеческой речи. Будучи вынужден рассказать про достижения Канзи со товарищи, он стилем изложения, подбором фраз и пр. языковыми средствами создаёт у читателя ложное впечатление что а) это единственный исключительный случай, б) всё равно шимпанзёнка пришлось долго и трудно обучать, чтобы получить какие-то результаты («Рубикон…», разд.10.4).
Ещё хуже, что рассказ заранее обесценен дискредитирующими суждениями о данных опытах (мол, они вызваны «желанием во что ни стало доказать, если и есть различия в том, что называется «вербальным поведением», то это различия скорее количественные, нежели качественные». Подобные реплики недопустимы в научно-популярной книге, где читатель, как правило, не иследователь, а просто интересующийся обыватель, автоматически приравняет оценочное суждение специалиста к научному знанию, добытому в конкретных опытах: как знают психологи, все мы — существа, живущие социальным сравнением больше чем непосредственно воспринимаемой реальностью. Они вдвойне недопустимы в случае, когда автор не специалист в данной области, но лишь компетентный читатель: они чётко маркируют, что «обманываться рад», воспринимает лишь данные поддерживающие его любимые теории.
Рассказ завершается столь же токсичной риторикой, сопрягающей дезинформацию с двумя (!) сбоями в логике:
«Разумеется, было бы неверным считать, что все эти достижения юных бонобо не потребовали длительных систематических усилий со стороны людей-воспитателей. От тех, кто склонен преувеличивать «языковые» возможности человекообразных обезьян, нередко приходиться слышать, что Канзи и его сестер «не обучали» использованию символов. Но, спрашивается, обучаем мы этому своих собственных детей?» (с.370).
Доктор биологических наук вроде бы должен уметь выстраивать доказательные суждения: но здесь 1) опровергаются не утверждения оппонентов («не обучали») а что удобней опровергать (словами про «систематические усилия»), 2) второе опровержение вовсе не относится к опровергаемому тезису: наши интерпретации про усвоение языка человеческими детьми вообще не имеют отношения к фактам равной спонтанности усвоения разными обезьянами предложенных им разных символических систем («языков-посредников»), включая английский язык.
И эти «доказывания» и «опровержения» абсолютно доминируют в книге, в том числе и в рассказах про сигналы/механизмы коммуникации у птиц — области непосредственных полевых исследований автора.
Четвёртая — реплики, создающие у читателя представление об отсутствии перемещаемости и грамматики в пользовании анторопоидами предложенных им языковых систем («Рубикон…», разд.10.6), хотя простое («в два клика») сравнение со статьёй З.А.Зориной немедленно обнаруживает, что это не так. Есть и пятая («изготавливая орудия по образцу, бонобо не понимают что делают и действуют чисто механически» — ко времени выхода книги уже были получены данные о целенаправленном изготовлении и использовании ими орудий в природе или в неволе, не уступающем таковому у обыкновенного шимпанзе, чуть поздней — об активной охоте на мелких позвоночных), шестая и пр… разбор всех их занял бы слишком много места.
Удручает и ненаучный стиль изложения, общий для всех названных книг Е.Н.Панова. Обсуждая какой-то вопрос, автор приводит мнения разных авторов по этому поводу (при явном перевесе высказываний в пользу «его» теории), вместо того чтобы анализировать все относящиеся к делу данные, сопоставляя их со всеми имеющими место быть объяснениями, какое из конкурирующих они подтвердят, а какое опровергнут. Неслучайно лозунг науки «ничего словами!», убеждать должны непосредственно результаты исследований, единственно мыслимые здесь «слова» — анализ метода исследований (годится ли он для решения данной проблемы?) и рассуждения о границах применимости полученных результатов (дабы избежать эффекта «если в руках у нас молоток, любая проблема кажется гвоздём»).
Принцип фальсификации Поппера и другие мерила научности/доказательности суждения требуют именно такого подхода, а подобный перебор мнений с их «взвешиванием» и оценкой, базирующимися только на прошлом авторитете, недопустим вообще даже в научно-популярных книгах. Ошибки бывают у всех, избыточная любовь к собственным теориям присуща всём учёным без исключения, поэтому такой разговорный жанр «обсужление мнений вместо изложения знаний» низводит естественные науки до уровня средневековой схоластики или нынешней постмодернистской философии.
Примечания
1См. подробней «О плюрализме теоретических конструкций»
2Шпенглер О. Пруссизм или социализм?// Современный Запад. 1923. №1. С.197.
3Сегодня гг. Пинкер и Хомский высказываются за «свободу слова», «академическую свободу», против «культуры отмены». Учитывая их практику, что описана выше, понятно, чего стоят эти слова. Других, впрочем, в защиту всего перечисленного и не находится.
4Бонобо — карликовый шимпанзе (Pan paniscus), сравнительно недавно (1929 г.) открытый вид человекообразных обезьян, который считается самым близким к человеку. C группой обезьян этого вида с конца 80-х годов ХХ века работает С. Сэвидж-Рамбо (Savage-Rumbaugh).
5См. Е.Н.Панов. Знаки, символы, языки. Коммуникация в царстве животных и в мире людей. Изд. 6Е, исправл. и дополн. М.: URSS, 2011. С.377-378.
6См. Е.Н.Панов. Парадокс непрерывности: языковой Рубикон. О непроходимой пропасти между сигнальными системами животных и языком человека. М.: Языки славянских культур, 2012. 456 с.
7Сделанные тогда доклады опубликованы в сборнике А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская (сост.). «Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка». М.: Языки славянских культур, 2008. 416 c.